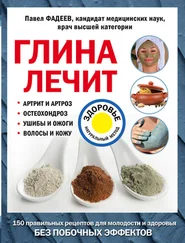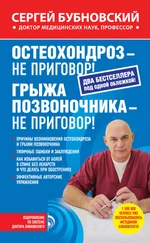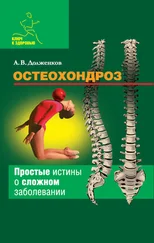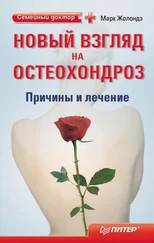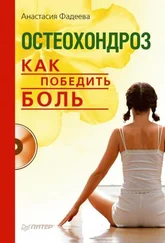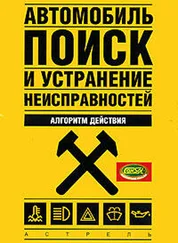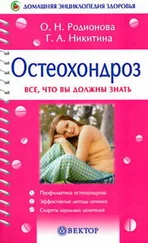Грубо говоря, Ю. Власова подвела его тонкая талия, изумлявшая весь мир. Говоря научно, подвела недостаточная мышечная масса в области поясницы, недостаточная тренировка ее боковой наклонной и вращательной подвижности. Не было соблюдено первое требование эволюции к прямоходящим, требование разумной подвижности, о котором мы говорили выше.
Приведем еще одну цитату из книги Ю. Власова. Тренер Ю. Власова Богдасаров говорит о Л. Жаботинском, сопернике чемпиона мира: «Вся сила в огромном животе. Сгони с него хотя бы пятнадцать килограммов — жалкий будет на помосте».
Очевидно, что Л. Жаботинский был более защищен от мышечных блокад поясничной области позвоночника. Достаточный «мышечный корсет» (огромный живот) защищал атлета.
В случае с Ю. Власовым мы предполагаем недостаточные мышечную массу и тренировку подвижности поясничной области. Однако выше мы говорили о втором требовании эволюции к прямоходящим. Это требование минимальной мышечной массы спины (туловища).
Если первое требование означает необходимость тренировать подвижность, соответствующую максимальным рабочим нагрузкам человека, то второе означает необходимость минимальной мышечной массы спины, способной обеспечить обычные, повседневные (не максимальные) рабочие нагрузки.
В качестве примера автор снова берет на себя смелость заочно проанализировать заболевание, на этот раз известного академика-кардиохирурга Н. М. Амосова. И в этом случае у нас нет согласия Н. М. Амосова, и в качестве разрешения мы считаем возможным сослаться на его книгу «Раздумья о здоровье» (1987 г.).
Академик Н. М. Амосов убежден, что «идеальный вес не имеет ценности», что при его росте в 168 см целесообразно иметь вес в 55–57 килограммов. Автор же считает этот вес существенно недостаточным. В этом и заключается, по нашему мнению, ошибка академика-кардиохирурга.
Недостаточный вес неизбежно означает и недостаточность «мышечного корсета» позвоночника. В этом случае его хозяина ждали неизбежные блокады, в первую очередь, в области поясницы и шеи. Но академик Н. М. Амосов систематически и много тренирует свои мышцы, свою подвижность. В результате тренировок наиболее опасные области поясницы и шеи оказались у него защищенными от мышечных блокад. Таким образом, вся тяжесть недостаточности мышечной массы вдоль позвоночника от недостаточности общего веса будет сказываться в грудном отделе позвоночника, глубокие мышцы которого значительно труднее поддаются тренировке. Это значит, что уже при обычных нагрузках (не чрезмерных) возможны проявления мышечных блокад дисков в виде компрессии спинномозговых нервов, иннервирующих сердце, диафрагму, печень, желчный пузырь. В отношении сердца нарушение иннервации уже имеет место, по крайней мере, с 1985 года. Мы убеждены, что при весе в 66–68 килограммов Н. М. Амосов был бы автоматически защищен от нарушения иннервации сердца, не было бы нужды в электростимуляторе, вшитом Н. М. Амосову в январе 1986 года. Другие причины нарушения иннервации сердца у Н. М. Амосова не просматривались. Заболевание было функциональным, восстановимым.
В качестве основного элемента лечения необходимо было восстановить искусственно сниженный вес.
В книге академика Н. М. Амосова много кардиологических ошибок. О вшитом ему электростимуляторе сердца говорится: «Электрод проведен через вены внутрь сердца, прямо к мышце правого желудочка». Очевидно, электрод должен быть проведен к мышце правого предсердия.
До сентября 1985 года пульс у Н. М. Амосова был равен 50 при нормальном артериальном давлении 120/75 мм рт. ст. В редком пульсе «обвиняется» синусовый узел сердца: «Оказалось, что мой редкий пульс связан со слабостью этого узла, а не только с хорошей тренированностью сердца, как я думал». Синусовый узел у академика Н. М. Амосова функционировал до и после операции вшивания электростимулятора нормально. Редкий пульс означал не слабость синусового узла, а ослабление его вегетативного возбуждения. Это было предупреждение о том, что продолжение ослабления вегетативного возбуждения неизбежно приведет к полной блокаде сердца. Пульс 50 — обычная нижняя предблокадная граница частоты сокращений сердца. Способность сердца учащать ритм при нагрузках не была утрачена. Следовательно, вегетативное возбуждение еще функционировало. Возникшая аритмия подтверждает сказанное. Синусовый узел еще являлся «исполнителем воли» вегетативной нервной системы.
Далее академик Н. М. Амосов пишет: «Но в сентябре 1985 г. синусовый узел отказал совсем. Пульс снизился до 36–40, и сердце потеряло способность учащать ритм при нагрузках. Формально я стал инвалидом. Спасла только хорошая тренированность сердечной мышцы. При столь редком пульсе я нормально работал и оперировал. Физкультура продолжалась».
Читать дальше