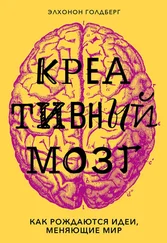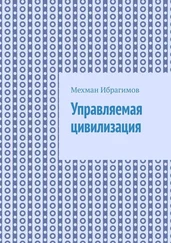В возрасте 12 лет, просматривая книги в отцовской библиотеке, чем я часто занимался, я наткнулся на русский перевод «Этики» Спинозы, и тогда впервые узнал об этом человеке. Пробираясь через трудно понимаемый текст, я наткнулся на его «этические теоремы, доказываемые дедуктивным путём» 2. Это был один из самых формирующих моментов в моей личной познавательной истории. Меня всегда привлекали математика, гуманитарные науки и история, но не особенно привлекали естественные науки — не совсем обычная конфигурация интересов. И меня определённо интересовала жизнь разума, но то немногое, что я знал в то время о психологии как дисциплине, меня особенно не впечатляло. Спиноза был откровением для меня, показав, что эти отдалённые области могут быть соединены и что казалось бы неточные предметы, такие как ум, общество и жизнь ума в обществе могут изучаться точными методами.
Конечно, попытка Спинозы в семнадцатом веке была, с точки зрения современной науки, наивна. Он не оказал, насколько я знаю, определяющего влияния на превращение исследований сложных систем, таких как мозг или общество, в относительно точные дисциплины, какими они стали. Были многие более прямые и влиятельные попытки этого рода, о которых я в то время не знал. Но для меня эта ранняя встреча со Спинозой была формирующим опытом, который более чем какое бы то ни было ещё влияние содействовал моему выбору психологии и нейронауки в качестве пожизненной карьеры.
Другая интеллектуальная встреча сопоставимой интенсивности произошла намного позже, когда в возрасте 19 лет я пробирался в библиотеке Московского государственного университета через классические статьи Уоррена Мак-Каллока и Уолтера Питса «Логическое исчисление идей, относящихся к нервной активности» (1943) 3и «Как мы познаем универсалии: восприятие звуковых и зрительных форм» (1947) 4, которые заложили основы моделирования мозга методом формальных нейронных сетей. Для меня существовала отчётливая интеллектуальная связь между «теоремами этики» Спинозы и «логическим исчислением» Мак-Каллока и Питса. И то и другое было попыткой внести точный дедуктивный метод в традиционно расплывчатое изучение души и мозга. В то время в России мало что происходило в той области, которая позднее была названа «вычислительной нейронаукой». С благодушного одобрения Лурии, мой друг Елена Артемьева (блестящий математик и ученица Андрея Колмогорова) и я старались ввести моделирование нейронных сетей в нейропсихологические исследования в Московском университете.
Последующая жизнь в США увела меня дальше от фундаментальных исследований в сторону клинической работы, чем я мог предвидеть в те ранние годы своей карьеры. Но моё понимание мозга и эвристическая метафора, которая направляла это понимание, всегда воодушевлялись ранней интеллектуальной встречей с понятием нейронной сети.
В духе этих ранних влияний на протяжении всей своей карьеры я интересовался — иногда явно, иногда неявно — общими принципами, которые выходят за пределы моей относительно узкой области знания. И это представляется мне своего рода полным интеллектуальным циклом: моё собственное идиосинкразическое понимание мозга породило метафору, которая для меня лично оказалась полезной в понимании социальных катаклизмов, через которые мы проходим. Я надеюсь, что эта метафора будет полезной для других людей.
Я думаю, что обсуждение отношения между автономией и контролем в различных сложных системах и уроки понимания общества, извлечённые из анализа мозга, — хорошее завершение этой книги. Ни одна сложная система не будет успешной без эффективного управляющего механизма, «лобных долей». Но лобные доли функционируют лучше всего, будучи частью высокораспределённой, интерактивной структуры с большой степенью автономии и многими степенями свободы.
1. Damasio A. Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. New York: Putnam Publishing Group, 1994.
2. Barkley R. A. ADHD and the Nature of Self-Control. New York: The Guilford Press, 1997.
3. Goldberg E. Tribute to Alexandr Romanovich Luria // Contemporary Neuropsychology and the Legacy of Luria / Ed. by E. Goldberg. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 1990. P. 1-9.
4. Sontag S. Illness As Metaphor and AIDS and Its Metaphors. New York: Doubleday Books, 1990.
Глава 2. Конец и начало: посвящёние
1. После распада Советского Союза улицы и общественные места, названные в честь советских полубогов и юбилеев, были переименованы — в большинстве случаев им были возвращены предреволюционные названия.
Читать дальше
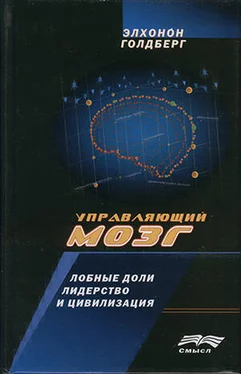

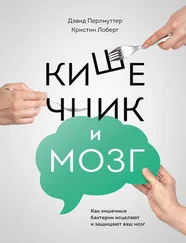
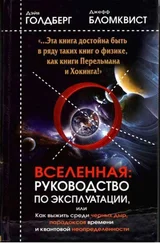
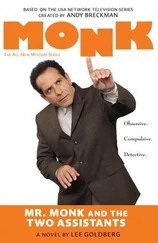
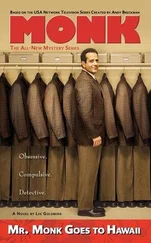
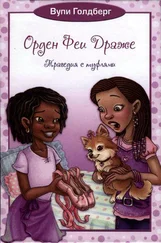

![Элхонон Голдберг - Креативный мозг [Как рождаются идеи, меняющие мир] [litres]](/books/395572/elhonon-goldberg-kreativnyj-mozg-kak-rozhdayutsya-id-thumb.webp)