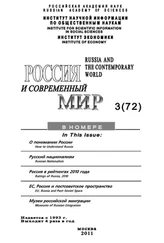В исследовательской практике ориентация на американский вариант «нового историзма» обернулась пренебрежением определенной части отечественных литературоведов к Большим вопросам литературоведения. В том, что касается Истории литературы , этот жанр (в традиционном понимании) был и вовсе отменен литературоведами, близкими к «НЛО», и заменен изучением литературно-исторических институций – литературной критики, деятельности литературных обществ, цензуры и других сублитературных рядов.
Трудно оспорить идеи, выдвинутые Х. Уайтом и его последователями о родстве, перетекании или срощенности Языка исторического нарратива и историко-литературного. Любой текст так или иначе пишется, имея источником актуальную эпистему, идеологию, идентификационные убеждения общества / автора, т. е. непременно какой-либо «центризм». Он обязательно конструируется. Со времен зарождения новой романтической историографии и одновременно истории литературы, в том числе и в последующем, в период попыток найти цивилизационные основания, пройдя позитивизм, историко-культурную школу и т. д., наше сознание вплоть до постструктуралистского «вызова» оставалось незамутненным. Разные «духи» – «дух народа», «дух нации», «дух империи», «дух класса», «дух элиты», «дух цивилизации», «дух этноса» – определяли характер центризма и соответственно нарратива в историографических, историко-литературных, потом – цивилизационных построениях [154].
Естественно, можно обнаружить эти ранее неосознававшиеся «механизмы» в Больших и в малых Историях, создававшихся в Институте мировой литературы, будь то «История всемирной литературы», «История советской многонациональной литературы» или очерки истории национальных литератур [155]. Все они строились на основе господствующего «единственно верного» учения, на идеях «взаимообогащения» и состыковывались с историческими «преданиями», созданными историографией, согласно разработанной ею периодизацией восходящего прогресса.
Что касается «парных» Больших Историй, таких как «Всемирная история» в десяти томах (1955–1965) и «История всемирной литературы» в восьми томах (1983–1994), то исправить, «подправить» их невозможно, как невозможно подправить и общество, их создавшее и канувшее в Лету. А вот что касается очерков истории национальных советских литератур, даже при всей ущербности идеологической схематики, то они, думается, не совсем утратили свое значение – ведь многих малых историй до них просто не существовало, и при всех издержках, цензурных лакунах, неполноте информации и некачественности интерпретации они остаются первыми и занимают свое место в новых, современных попытках переосмысления прошлого, в стремлении возродить забытое, гонимое, запрещенное, воссоздать ранее спрямлявшиеся пути формирования в период до взаимодействия с русско-советской культурой. То, что называлось «младописьменной» литературой, на поверку нередко имело гораздо больший «возраст» в рамках других культур и письменностей.
Но здесь эти «проснувшиеся» национальные литературы поджидали «драконы», способные «пожрать» благие мечтания: этноцентризм, национализм, готовые придумать новые наррации/«рассказы», близкие к мифологическим преданиям. Радикалы призывали порвать с источниками «имперского мейнстрима» (т. е. с русской классикой), найти другие, «антиимперские» ориентации, переписать по образцу западных постколониальных теорий классику, писать «поверх канона» и т. п. В итоге – либо новое искажение истории, либо этнокультурный провинциализм, изоляционизм, новая мифология.
Поиски «новаторских» подходов к жанру Истории литературы стали «мощным аргументом в пользу раздробления Большой Истории на множество конкурирующих историй, написанных с точки зрения той или иной социальной или национальной группы… нет никаких причин не писать историю так, чтобы она отражала именно ваши идеологические интересы» [156], – замечает Андрей Щербенок (Калифорнийский университет, Беркли).
Круг замыкается. И уже кажется честнее откровенная демонстрация научно-культурного шовинизма, нежели всякие маскировки, вроде призыва американского критика, одного из основателей «нового историзма» Стивена Гринблатта к «осторожности» формулировок и к «эпистемологической скромности» (!) [157]. Спасительны ли такие «меры»? В самом деле, если та или иная господствующая общественная, этническая, классовая и т. д. группа редуцирует и «рассказывает» Историю, исходя из своих представлений и интересов, то дальше осознания этого факта двинуться трудно, а скорее невозможно. И снова лбом о стену: возможна ли иная история, некий универсальный нарратив?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
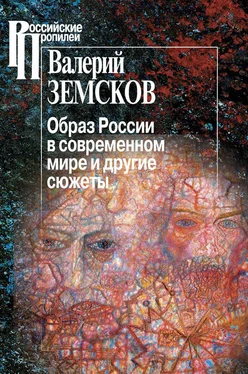
![Евгений Примаков - Россия в современном мире. Прошлое, настоящее, будущее [сборник]](/books/27003/evgenij-primakov-rossiya-v-sovremennom-mire-proshlo-thumb.webp)