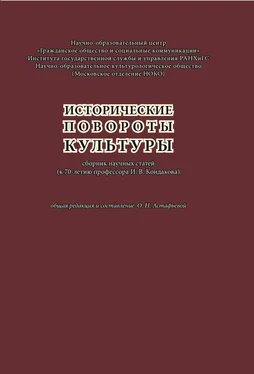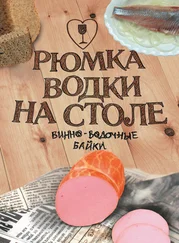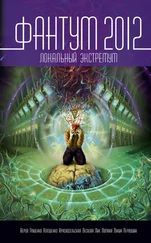Знаете ли, что это письмо пишется к вам из Вены? я мог бы сию минуту сходить в Poste restante и взять там ваше письмо и написать на него ответ, но я не хотел этого сделать для того, чтобы до завтра быть в сладкой уверенности, что там лежит точно ваше письмо ко мне. Если ж там нет его – боже! сколько злости прольется. Всем достанется: и немцам, и Вене, и шляпе, и перчаткам, и мостовой, и собственному носу, о чем, как кажется, было уже писано. И ни одному немцу, который будет сидеть со мною в дилижансе, не позволю выкурить ни одной сигары. Пусть он треснет, проклятый! Прощайте, целую ваши ручки» Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. М., 1937–1952. Т. 11: Письма, 1836–1841. С. 236–237. Впервые опубликовано в «Русском Архиве» 1867, III, с. 473–475 (под заголовком: «Шуточное письмо Н. В. Гоголя к одной русской даме»). Елизавета Григорьевна Черткова (урожд. гр. Чернышева, 1805–1858) – московская знакомая Гоголя, жена историка и археолога А. Д. Черткова. Она, в частности, позже предоставила писателю пространство для своеобразной, типично гоголевской, с некоторым «венским» акцентом, «драмы в драме», своего рода «Мышеловке»: «Гоголь еще не видал на московской сцене «Ревизора»; актеры даже обижались этим, и мы уговорили Гоголя посмотреть свою комедию. Гоголь выбрал день, и «Ревизора» назначили. Слух об этом распространился по Москве, и лучшая публика заняла бельэтаж и первые ряды кресел. Гоголь приехал в бенуар к Чертковой, первый с левой стороны, и сел или почти лег так, чтоб в креслах было не видно. Через два бенуара сидел я с семейством; пьеса шла отлично хорошо; публика принимала ее (может быть, в сотый раз) с восхищением. По окончании третьего акта вдруг все встали, обратились к бенуару Чертковой и начали вызывать автора. Вероятно, кому-нибудь пришла мысль, что Гоголь может уехать, не дослушав пиесы. Несколько времени он выдерживал вызовы и гром рукоплесканий, потом выбежал из бенуара. Я бросился за ним, чтобы провести его в ложу директора, предполагая, что он хочет показаться публике; но вдруг вижу, что он спешит вон из театра. Я догнал его у наружных дверей и упрашивал войти в директорскую ложу. Гоголь не согласился, сказал, что он никак не может этого сделать, и убежал. Публика была очень недовольна, сочла такой поступок оскорбительным и приписала его безмерному самолюбию и гордости автора. На другой день Гоголь одумался, написал извинительное письмо к Загоскину (директору театра), прося его сделать письмо известным публике, благодарил, извинялся и наклепал на себя небывалые обстоятельства. Погодин прислал это письмо на другой день мне, спрашивая, что делать? Я отсоветовал посылать, с чем и Погодин был согласен. Гоголь не послал письма и на мои вопросы отвечал мне точно то же, на что намекал только в письме, то есть что он перед самым спектаклем получил огорчительное письмо от матери, которое его так расстроило, что принимать в эту минуту изъявление восторга зрителей было для него не только совестно, но даже невозможно. Нам казалось тогда, и теперь еще почти всем кажется, такое объяснение неискренним и несправедливым. Мать Гоголя вскоре приехала в Москву, и мы узнали, что ничего особенно огорчительного с нею в это время не случилось. Отговорка Гоголя признана была нами за чистую выдумку; но теперь я отступаюсь от этой мысли, признаю вполне возможным, что обыкновенное письмо о затруднении в уплате процентов по имению, заложенному в Приказе общественного призрения, могло так расстроить Гоголя, что всякое торжество, приятное самолюбию человеческому, могло показаться ему грешным и противным. Объяснение же с публикой о таких щекотливых семейных обстоятельствах, которое мы сейчас готовы назвать трусостью и подлостью или, из милости, крайним неприличием, обличает только чистую, прямую, простую душу Гоголя, полную любви к людям и уверенную в их сочувствии» [146] Аксаков С. Т. История моего знакомства с Гоголем. – М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1960. С. 59–60.
.
В сущности, вернемся к исходному письму, Гоголь здесь сразу же постиг саму сущность венского опереточного бытия, предвосхитил не только особенности грядущей литературной, но и художественной жизни с её превращенным акционизмом и даже в какой-то степени дал набросок сценариев экранизаций – как «Новеллы о снах» Артура Шницлера Стэнли Кубриком, перенесшим в фильме «С широко закрытыми глазами» (1999) события из Вены 1925 года в современный Нью-Йорк (говорят, рассеянные там по ходу дела намеки на особенности интимной жизни современной элиты стоило ему жизни). В результате весь мир предстал как глобальная Вена тайного артистичного разврата. Можно также вспомнить наполненный метаморфозами в гоголевском ключе клип «Кругом одни мужчины», вероятно, повлиявший на замысел фильма «Муха» Д. Кроненберга, последовательно и вполне по-гоголевски развивающего тему телесного ужаса. Отъехав в Мариенбад, Гоголь опять 25.08.1839 г. возвращается в Вену, откуда в письме к С. П. Шевыреву сообщает уже о конкретной работе – над драмой из истории Запорожья: «Передо мною выясниваются и проходят поэтическим строем времена казачества, и если я ничего не сделаю из этого, то я буду большой дурак». 19.09.1839 года Гоголь уезжает в Россию, с тем, чтобы приехать сюда еще раз в июне следующего 1840 года, чтобы именно здесь продолжить работу над запорожской трагедией и предаться лечению водами. «…Вена приняла меня царским образом! Только теперь всего два дня прекратилась опера. Чудная, невиданная. В продолжение целых двух недель первые певцы Италии мощно возмущали, двигали и производили благодетельные потрясения в моих чувствах. Велики милости бога! Я оживу еще» [147] Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1952. Т. 11: Письма, 1836–1841. С. 295.
. Однако лечение на пользу не идет, вместе с жарой приходит тяжелейшее духовное расстройство – «Венский кризис», когда сам воздух стал казаться кажется «неприятным» – «тень отца приходит в бессонные ночи, и он вспоминает, что, по рассказам матери, тот так же предчувствовал свой конец и, чтоб не привлекать в свидетели близких, уехал умирать из дому» [148] Золотусский И. П. Гоголь. – М.: Молодая гвардия, 1979. С. 158.
. Вена стала для Гоголя каким-то Вий-городом, и он с последними надеждами на перемену места уезжает в Рим, а призрак ненаписанной запорожской трагедии так и остался навечно здесь, не став пока памятником.
Читать дальше