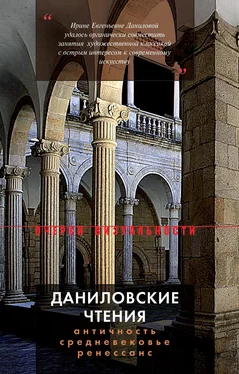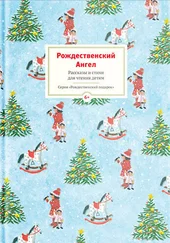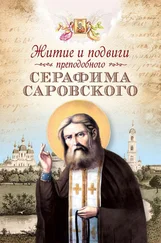Профессиональная судьба И. Е. Даниловой сложилась неординарно. Почти во всех учреждениях, где она работала, Ирина Евгеньевна оказывалась фигурой обособленной: сначала как искусствовед среди художников, потом как искусствовед, привыкший к широким проблемам истории искусства, среди музейщиков, затем как искусствовед среди историков и филологов, и ей никогда не довелось работать в коллективе древнеруссников. И. Е. Данилова сформировалась как человек внутренне глубоко независимый и в профессии, и в человеческих отношениях. При всей подчеркнутой неброскости поведения она могла очень твердо и верно отстаивать свою точку зрения и убеждения. Это особенно отчетливо проявлялось, когда она помогала гонимым, выступая в защиту тех, кто оказывался в конфликтной ситуации по идеологическим и профессиональным причинам. Она всегда была верна своему учителю – М. В. Алпатову, подвергавшемуся гонениям. Однажды она пригласила выступить на Випперовских чтениях человека, подписавшего письмо в защиту А. И. Солженицына, для него на тот момент все редакции были закрыты [32] Баранов А. Н. // Введение в храм. С. 23.
. О ее помощи помнят по крайней мере три человека, защиты диссертаций которых она в критических ситуациях организовала или поддержала своим участием: М. М. Алленов, Е. А. Савостина и я. Как верно отметил М. Н. Соколов, «большинство московских – да и не только московских – историков искусства чем-то так или иначе Ирине Евгеньевне обязано» [33] Соколов М. Н . // Введение в храм. С. 22–23.
.
И. Е. Данилова и методы искусствознания
М. Соколов (M. Sokolov, Москва)
Summary
The article is dedicated to the role of Irina Danilova in Soviet art studies, to different methods of art history in her research, to the special importance of her work for the development of art theory in Russia, as well as to the investigator’s interest in contemporary art and art criticism.
Когда задумываешься о судьбах нашего искусствознания, то как-то неизменно приходит на ум образ «Золушки среди наук». Это имя присвоил науке об искусстве один немецкий профессор в конце XIX века, и именно такой она пребывала у нас весь XX век. Только-только сформировавшись и тут же, в самом начале века, завоевав немалый международный авторитет, она (после разгрома Российской академии художественных наук в 1920-е годы) быстро угасла и приказала долго жить – как, впрочем, и все прочие гуманитарные, нестратегические науки. Однако организм гуманитарной дисциплины – это все же не человеческий организм, он может возродиться и после смерти, живя по своим собственным трансбиологическим законам. В других науках – в языковедении, этнографии, филологии и т. д. – была все же своя людская критическая масса, и этот пусть и чисто количественный фактор способствовал выживанию в самых трудных идеологических условиях. Золушка же, будучи самой маленькой и слабой, так и не возродилась, несмотря на все оттепели и перестройки. Так и не образовалась вновь та объективная системность знания, которая обеспечивает жизнедеятельность научных школ независимо от всех, даже самых суровых, внешних обстоятельств. Школы, прочной традиции так и не сложилось, и вроде бы остается лишь время от времени приходить на могилку бедной Золушки и вздыхать по древним временам Д. В. Айналова и Н. П. Кондакова.
Однако, погоревав у могилки, ты вдруг понимаешь, что на кладбище ты не одинок. Кто-то поблизости сажает цветы, а кто-то даже и деревца. Определенная экзистенция – пусть даже и разрозненная, как частицы тела без живой воды – все же продолжается. Нет школы, нет прочной системы, нет единого стандарта качества (гарантом которого мог бы быть практически отсутствующий у нас научный журнал) – зато есть личности, на которых все, собственно, и держалось. И в российских условиях почти векового «наличия отсутствия» роль этих личностей была воистину героической.
Был величайший русский искусствовед XX века В. П. Зубов, были В. Н. Лазарев и М. В. Алпатов, были В. Н. Гращенков и М. Я. Либман, была блестящая эрмитажная плеяда (И. В. Линник и другие). Каждый может удлинить мой краткий список, исходя из своих собственных интересов и пристрастий… Был, в конце концов (как бы о нем ни рассуждали), И. Э. Грабарь, который мог при желании записаться на прием к И. В. Сталину и заявить ему о нуждах своей любимой науки (искусствоведов такого политического уровня ныне нет и не предвидится).
И была Ирина Евгеньевна Данилова, подлинный светоч, человек-светильник. Ныне это понятие выглядит несколько гротескно, но оно и сложилось (у Лукиана, а затем у Рабле) как веселый гротеск о людях, способных осветить целый большой ландшафт, который пребывал бы иначе в ночной тьме.
Читать дальше