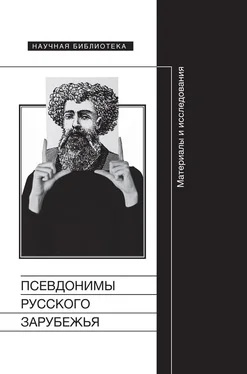В. Г. Дмитриев считает, что один только лексикологический подход к псевдониму не позволяет раскрыть во всей полноте принципы его построения и смысловые оттенки [49]. В своей книге «Скрывшие свое имя» он рассматривает именно эти аспекты, затем классифицирует причины, заставляющие авторов изменить свое имя (С. 9–110), а также приводит классификацию видов псевдонима по семантическим критериям (С. 111–120).
Одной из причин, заставляющих писателей прибегать к псевдонимам, Дмитриев называет стремление избежать цензуры и прочих видов преследований, что было особенно важно для авторов эпиграмм или сатирических произведений, а также политически неблагонадежных лиц (например, декабристов во время Николая I) (С. 35). С его утверждением, что после Октябрьской революции этот аргумент перестал быть актуальным (С. 47), едва ли согласились бы писатели самиздата и эмиграции. Среди других причин Дмитриев называет социальное положение авторов, а также сословные понятия, не признававшие литературное творчество приличным занятием (С. 48).
Бывало, что родственники писателя не хотели, чтобы их фамилия фигурировала в публичном пространстве; иногда писатели, подвизавшиеся в других профессиональных сферах (например, служившие офицерами или чиновниками), считали свою основную деятельность несовместимой с писательством (С. 52, 55–56). Несмотря на то что писательская деятельность в ХХ веке обладала уже другим статусом, забота о собственном престиже и общественной репутации носит, безусловно, универсальный характер.
Дмитриев приводит и другие поводы для применения псевдонимов, в частности: опасение возможной неудачи (особенно у начинающих писателей) (С. 60); гендерные предрассудки, заставляющие женщин писать под мужским именем (псевдоандроним) (С. 69–70), хотя были и обратные случаи (псевдогиним) (С. 77); стремление отличаться от других авторов, носящих то же имя (С. 91), или, наоборот, умышленная путаница с известным лицом (С. 95); намеренное употребление одного и того же псевдонима двумя или более лицами (С. 95–96); акцентирование места пребывания, рождения или происхождения (геоним) (С. 98); неудовлетворенность звучанием имени, которое заменяется более «благозвучным» (С. 101), и др.
К этим побуждениям можно добавить и другие, перечисленные, например, в предисловиях к немецкому словарю псевдонимов Йорга Вайганда [50]или к английскому словарю Фрэнка Aткинсона [51]. В случае, когда автор пишет для многих журналов или издательств, псевдоним помогает скрывать это обстоятельство; в периодике применение псевдонимов создает впечатление большего числа авторов, работающих в определенном издании [52]. Псевдоним может быть также применен для того, чтобы сблизить звучание имени автора с жанром, в котором он пишет, часто с целью создать впечатление аутентичности [53]: например, читатель романтических историй будет ожидать от автора произведений этого жанра экспрессивно звучащего имени [54].
С семантической точки зрения Дмитриев разделяет псевдонимы на те, которые отражают характерные черты автора, и те, которые этой функцией не обладают. К первой группе относятся, в частности, намеки на примету личности (френоним) (С. 111, 115). В случае аллонима автором употребляется в качестве псевдонима имя подлинной личности настоящего или прошлого времени (С. 133).
Швейцарский славист Феликс Филипп Ингольд классифицирует в своей статье о поэтике псевдонима (на название которой ориентировался и заголовок данной статьи) [55]разные виды построения неверных подписей по степени прозрачности их композиции. Из многочисленных примеров, приведенных Ингольдом, я кратко представлю лишь некоторые. Высокую степень прозрачности имеют, например, псевдонимы, применяющие такие приемы, как изменение порядка фонетических частей имени и разнотипные сокращения, акронимы или инициалы, являющиеся в частности нарушением привычного типографического или звукового образа имени (С. 319). Большей комплексностью обладает прием анаграммы, хотя палиндром как особый вариант анаграммы можно считать более прозрачным (С. 321). Очень большую степень прозрачности имеют псевдонимы, указывающие сами на себя, т. е. на писательскую работу или на акт сокрытия (С. 324).
Кроме этих более формальных аспектов Ингольд рассматривает также проблему псевдонима и человеческого имени в целом с философской точки зрения (в духе русской традиции «философии имени»). Основные положения Ингольда таковы. Хотя в случае имени особенно явно просматривается лингвистический принцип арбитрарности, с именем с давних пор связаны определенные представления о судьбе и жизненном пути его носителя (С. 307, 312). Однако не каждый носитель имени доволен подобными представлениями и, соответственно, вытекающими из них ожиданиями; принимая псевдоним, он не только маскирует собственное имя, но и расширяет свою личность самостоятельно выбранным значением, позволяющим также фиктивно дистанцироваться от самого себя (С. 308).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу