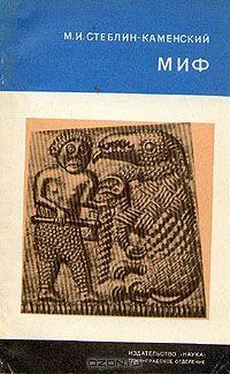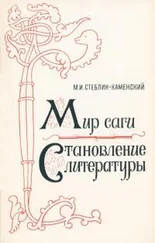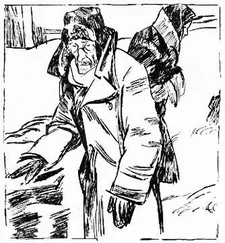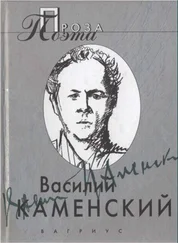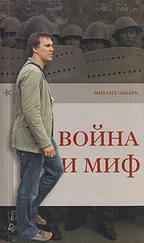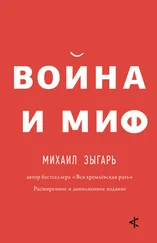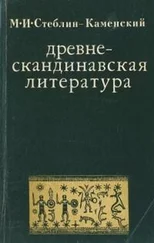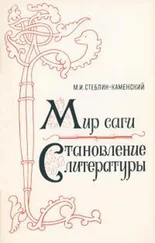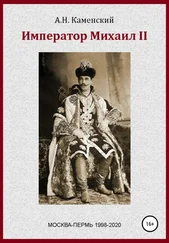Натурмифологи ставили жесткие границы своим толкованиям, стремились к методологической последовательности (если уж нашел солнце, то находи его всюду; если уж нашел луну, то находи ее всюду, и т. д.). Их преемники были менее последовательны и не стремились к методологической строгости — вот и вся разница. В сущности в своем стремлении к строгости метода натурмифологи предвосхищали структуралистов, которые тоже большое значение придают строгости метода (если уж нашел структуру, то находи ее всюду, и т. д.). В частности, Макс Мюллер, перенося лингвистические методы в науку о мифах, явно предвосхищал Леви — Стросса, самого выдающегося из современных мифологов. Разница между Максом Мюллером и Леви — Строссом в основном в том, что первый превосходно знал языки, на которых сохранились древние мифы, и в совершенстве владел лингвистическими методами своего времени, между тем как второй работает с мифами не в оригинале, а в переводе, и хотя он очень широко использует лингвистические термины, но обычно не в их собственном значении (ср. ниже).
Толкование мифов издавна заключалось не только в попытках установить, что данный миф значит, но также и в попытках найти параллель к данному мифу или данному мифологическому мотиву в мифологии другого народа и таким образом установить, откуда этот миф или этот мотив мог быть заимствован. Еще Геродот на основании обнаруженных им сходств выводил Посейдона из Ливии, Вакха — из Египта и т. д. Геродот, таким образом, заложил основы сравнительного метода в мифологии. И в сущности основы этого метода с тех пор не претерпели существенных изменений.
Гипотезы Геродота о происхождении греческих богов не получили подтверждения. Но точно так же, как правило, оставались недоказанными и гипотезы о заимствованиях или миграциях мифов, выдвигавшиеся в новое время. Тому, кто обладает достаточной эрудицией, обычно не представляет большого труда найти параллель к данному мифу или данному мифологическому мотиву в мифологии другого народа. И если между данными народами мыслимы исторические связи, то можно выдвинуть гипотезу о заимствовании или миграции соответствующего мифа или соответствующего мотива. Однако, обладая еще большей эрудицией, нередко можно найти параллель к соответствующему мифу или соответствующему мотиву и у такого народа, исторические связи которого с данным народом немыслимы. В таком случае приходится отказываться от гипотезы о заимствовании или миграции и предполагать параллельное развитие или стадиальное сходство. Однако доказать, что действительно имеет место стадиальное сходство, а не заимствование, миграция или случайность, можно, только показав, что возникновение данного мифа или данного мотива с необходимостью должно произойти на данной стадии развития сознания. Но для доказательства этого сравнительный материал совершенно не нужен. Поэтому, вероятно, нет науки, которая требовала бы большей эрудиции, чем сравнительная мифология. Но в сущности нет и науки более бесплодной. Тем не менее сравнительная мифология до сих пор остается основным направлением исследования отдельных мифов.
Одним из удивительных порождений сравнительного метода в мифологии была нашумевшая в свое время, но вскоре высмеянная как абсурдная теория, которая получила название панвавилонизма. Согласно этой теории — она была изложена в ряде трудов нескольких очень солидных ученых — основой мифов всего мира послужили космогония и астрономия вавилонян, особенно их звездные мифы (панвавилонисты сочетали сравнительный метод с натурмифологией).[11]
Не менее удивительным порождением сравнительного метода в мифологии была знаменитая теория Суфуса Бюгге, крупнейшего норвежского лингвиста, литературоведа–медиевиста, текстолога, фольклориста, рунолога и мифолога, ученого огромной эрудиции и необыкновенного комбинационного дара. Благодаря этим свойствам Бюгге мог, как рассказывают те, кто слушали его лекции, доказать все что угодно и тут же опровергнуть доказанное. Его теория происхождения эддических мифов из различных христианских и позднеантичных повествований, якобы усвоенных викингами во время их походов на Британские острова, имела большой успех, и ее абсурдность далеко не сразу была замечена (теория Бюгге предполагала, как потом стало ясно, что викинги, ворвавшись в тот или иной монастырь, сразу же, вместо того чтобы заняться грабежом, бросались в монастырский скрипторий и там взахлеб читали латинские рукописи редчайших памятников и потом сочиняли мифы, в которых использовали приобретенную эрудицию).[12]
Читать дальше