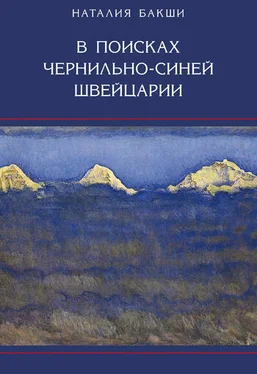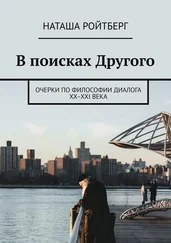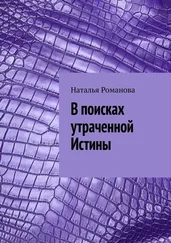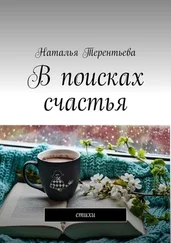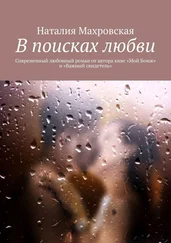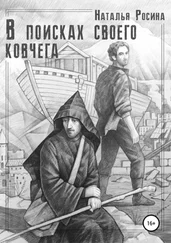Чтение Матиаса Цшокке – писателя, награжденного премией Роберта Вальзера и, по его собственным словам, «инфицированного вирусом Вальзер», любящего писать книги, в которых ничего не происходит, – к удивлению самих организаторов литературных дней, вызвало настолько большой интерес, что его были вынуждены перенести в более торжественный, рассчитанный на 500 человек зал, который оказался весь заполнен. В конце зала сидит Мартин Дин, автор постмодернистских романов «Скрытые сады» и «Человек без света», а так же романов «Узел Гуайана» и «Мои отцы» на модную тему о поиске идентичности, представитель направления ангажированной литературы. Он внимательно осматривает зал. Его мало интересует само чтение, он почти не смотрит на автора. Его внимание приковано к реакциям зала, к смеху, переглядываниям и перешептываниям, к входящим и выходящим людям. Внимательно всматриваясь в лица, он пытается уловить малейшие эмоции. Хотя если присмотреться внимательно, то видно, что он не столько изучает реакции других, сколько ищет подтверждение своей собственной, сложившейся много лет назад… Но об этом позже.
Матиас Цшокке не зря долгое время живет в Берлине и воплощает в себе многие из присущих этому городу черт, которые так очаровывают швейцарских писателей, начиная с Келлера и Вальзера: быстроту, уверенность в себе, некоторую сухость и жесткость, возможно, происходящие от остроты и точности наблюдения, не нуждающихся в лишних эмоциях и словах. В своей жесткой точности, однако, он производит удивительно гармоничное впечатление абсолютного соответствия облика писателя его текстам. Четко, без всяких эмоций он читает из своего нового романа «Морис с курицей» отрывок о ком-то, кто едет на конгресс, выступая вместо кого-то другого, поскольку на конгрессах «все всегда представляют кого-то другого, никто не является самим собой. Всегда кто-то приезжает слишком поздно, либо пропустив свой самолет, либо застряв в пробке и т. д.». Затем этот кто-то оказывается вечером в баре, в котором его обслуживает официантка с лицом, будто она только что узнала, что у нее рак, или у ее подруги, или у ближайшей родственницы. «В конце концов, сейчас ведь почти у всех рак». «Почему вы назвали свой роман „Морис с курицей“?» – раздает из зала неуверенный вопрос после неоднократных поощрений модератора к дискуссии. «Так называется одна из картин Анкера – известного швейцарского художника второй половины XIX века, писавшего на деревенские сюжеты и ставшего сейчас символом консерватизма и буржуазности. Он висел у моих родителей, и я любил его с детства. Особенно эту картину – „Морис с курицей“. На полотне крупным планом изображен мальчик, а в руках у него курица. И больше ничего на картине нет. А внизу подпись „Морис с курицей“. По-моему, это звучит страшно современно и совершенно авангардно». «Кого из русских писателей вы любите, господин Цшокке?» Ответ раздается незамедлительно: «„Записки охотника“ Тургенева. Там на протяжении всего текста ничего не происходит. Разве это не гениально? Ну и, конечно, прозу Чехова». Открыто улыбаясь, Матиас Цшокке удаляется решительными берлинскими шагами в окружении пяти пожилых женщин…
Одно из центральных событий золотурнских дней – дискуссия о «релевантном реализме», понятии, год назад введенном в обиход писателями Мартином Дином и Томасом Хетхе в их программном манифесте. Дискутируют оба писателя и литературовед Корина Кадуф:
Дин: «Релевантный реализм» – изменившаяся реальность в различных областях. Мы находимся посреди агрессивной глобализации. Раньше существовало привычное разделение на тех, кто стоит особняком, и тех, кто занимает активную позицию. Сейчас необходимо преодоление дихотомии «башня из слоновой кости» / ангажированность.
Кадуф: Для меня вопросы заключаются в следующем: что может литература? Что она должна?
Дин: Хлынувшие сейчас волной на рынок семейные романы являются шагом назад в частное и субъективное, в сторону консерватизма и «башни из слоновой кости». Сейчас необходима особая открытость на общественные события, не отстраненность, а способность к их рецепции.
Сам собой всплывает вопрос об эмигрантах и их положительном, освежающем влиянии на швейцарскую литературу.
Кадуф с раздражением: При чем здесь эмигранты? Необходима точность языка и сила воображения, а не посторонние влияния. Когда же мы наконец осознаем, что провинциальность – не исключительно швейцарская проблема?! Почему нам так необходимо подтверждение извне?!
Читать дальше