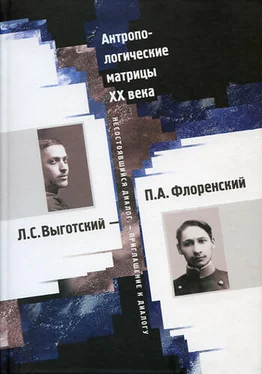Освоение принципа свободы не может выражаться в асоциальности человека и неспособности жить в обществе. Наоборот, не отрицательная свобода «от», но положительная свобода «для» предполагает очень высокий уровень социализации и изощренное освоение социальных знаний, высокий уровень развития социального воображения. Осознанный же отказ от жизни в обществе, когда с ним связано не религиозное догматическое рабство достаточно низкого уровня, но подлинная религиозная свобода, означает глубинное знание общества и его основ. Формой подобного акта свободы является отшельничество бывшего принца Гаутамы Будды или решение Николая II постричься в монахи после отречения от престола, в чем ему было отказано.
Основная проблема освоения принципа свободы в ситуации личностного роста состоит в том, что этот принцип высвечивается и просветляется для человека изнутри его совести и не может копироваться и перениматься на основе демонстрации образцов внешнего для человека поведения. Это не означает, что человек не может воспринимать акты свободы в истории, социальном мире и должен их извлекать изнутри самого себя, что было бы своеобразным солипсизмом, замыкающем человека в его индивидном бытии. Для восприятия актов свободы в действии и поведении других людей человек должен для самого себя понимать, что такое свобода.
Свободное действие, свободное поведение, свободное решение проявляются спонтанно в реакциях на ситуацию и происходящие события.
Однако подобная спонтанность не является простым результатом раскрепощенности и своеобразной вседозволенности. Эта спонтанность появляется после долгой и напряженной работы по преобразованию себя. И здесь мы должны обратить внимание на определение учебной задачи, которое было дано замечательным психологом Д.Б. Элькониным как задачи по преобразованию себя. Именно в ситуации обретения личной свободы как свободы над самим собой задача преобразования себя становится особенно важной и актуальной.
Есть очень тонкая грань между изменением самого себя как издевательством, когда эти изменения оказываются вызванными извне и не определяются желаниями и устремленностью самого человека, и совершенно другим изменением, когда выделение в качестве предмета преобразования процессов собственного поведения, мыследеятельности, способностей, состояния сознания человек намечает сам на основании собственных свободных актов.
В этом втором случае человек возвышается над самим собой и является Сверхчеловеком в том, ничуть не искаженном, гуманистическом смысле этого слова, который этому понятию первоначально хотел придать Фридрих Ницше.
Преобразование самого себя как доблесть ( áñåô å ), обретаемая на основе персонализирующего образования
Учащийся, который попадает в поле решения учебной задачи преобразования самого себя как акта свободы, собственно и инициирует ситуацию личностного роста. Безусловно, подобная инициация может возникнуть только в поле поддержки и инициации этого акта со стороны педагога. Здесь, собственно, и возникает основной вопрос о том, в чем заключаются функции педагога:
– Является ли педагог тем, кто может предъявить и продемонстрировать образец, который должен освоить учащийся?
– Является ли педагог тем, кто может предъявить образец преобразования себя? Ведь именно с этим образцом связано формирование умения учиться.
– Является ли педагог тем, кто может зародить желание у учащегося преобразовывать самого себя?
Нам представляется, что все эти три функции являются важнейшими для определения общественного назначения педагога. Очень часто в традиционной системе образования все функции педагога сводятся всего к одной – к умению продемонстрировать и показать, как решать конкретно-практическую задачу, как строить процесс рассуждения в данном локальном контексте, как осуществлять конкретное исполнительское действие. Поэтому педагог может потребовать только исполнения конкретного действия, обеспечивающего получение заданного ответа. Педагог при этом оказывается совершенно не способен проанализировать, как должен учащийся преобразовать себя, что он должен изменить в себе для того, чтобы осваивать данный образец. Постановка подобной задачи самопреобразования предполагает наличие у педагога конкретного антрополого-психологического видения того, как изменяются и трансформируются важнейшие мыследеятельностные функции, как осуществляется генезис мыследеятельностных функций, таких, как воображение, рефлексия, понимание, как данного типа функции могут возникать и поддерживаться в конкретной детско-взрослой общности. Для этого педагог должен обладать собственной отрефлектированной историей возникновения данных антропологических функций у него самого и историей становления данных функций в коллективной мыследеятельности конкретной общности.
Читать дальше