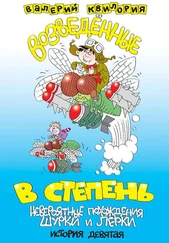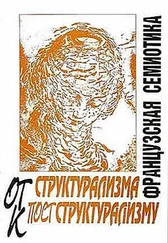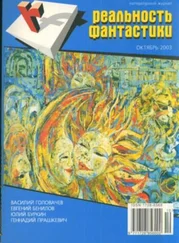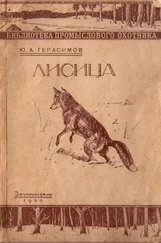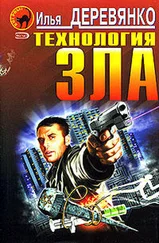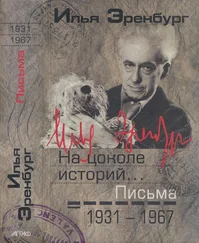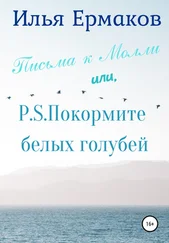Этим самым они снимают с себя ответственность за возможную ошибочность интерпретации, повторяя вслед за художниками-абстракционистами: «Я так вижу…» И вправду, что можно доказать, противопоставляя остроумной схеме Фуко некие исторические «факты», которые неизвестно кто и неизвестно еще с какой целью «навязал» обществу, прикрываясь авторитетом науки? И что можно ответить Фуко или Барту, если вы не Иосиф Бродский и не чувствуете внутренней убежденности в элементарной творческой неполноценности критика?
Лучшую пародию на постструктурализм все равно создали сами же французы, причем давным-давно: я имею в виду замечательный фильм «Высокий блондин в желтом ботинке» с Пьером Ришаром. Это просто учебное пособие по семиотике М. Фуко! Берется определенная «эпистема», проецируется на случайный, но кажущийся подходящим объект, при этом старательно игнорируется всяческий «контекст», который может разрушить изначальную гипотезу (для американских последователей Фуко «контекст» вообще бранное слово). Объект деконструируется, деконструируется, все вроде бы сходится – но в итоге исследователь оказывается в дураках… (К слову, «Возвращение Высокого блондина» посвящено второму интеллектуальному хиту 70-х: психоанализу Фрейда – Лакана.)
…Ту статью я так и не написал. В конце концов, что мне Гекуба и безуспешные литературные опыты Фуко и Барта? Другое дело – разгорающийся роман российской интеллигенции с постмодерном. Интеллектуальная собранность и ответственность никогда не были особенно характерны для интеллигенции, а мода на постмодерн обещает и вовсе освободить нас от презренных оков деспотического рацио. [1] Здесь и далее я говорю о постмодерне как общем стиле мышления, а не возможных достижениях отдельных художников.
Мне кажется, что в проекте постмодерна российская интеллигенция нашла уникальную возможность в очередной раз увернуться от тяжкой необходимости взять на себя ответственность за собственную интеллектуальную деятельность ради сохранения дорогого сердцу интеллигента дилетантизма.
Помните шуточное стихотворение Булата Окуджавы, в котором он обыгрывает название своего романа «Путешествия дилетантов», основываясь на определении «фраер – на жаргоне интеллигентный человек» (то есть дилетант):
Когда в прекрасный день разносчица даров
Вошла в мой тесный двор, бродя дворами,
Я мог бы написать, себя переборов,
«Прогулки маляров», «Прогулки поваров»…
Но по пути мне вышло с фрайерами. [2] Орфография Б.Ш. Окуджавы.
Характерно противопоставление «прозаических» профессий романтическим, хоть и «сниженным», фраерам. Интеллигент – не профессионал, в отличие от западного интеллектуала. Об этом написано предостаточно, и надо сказать, что пресловутые «профессионалы», которых ставят в пример бестолковым интеллигентам (по крайней мере российские авторы), во многом являются лишь дидактическим продуктом полемики. Никто ведь не хочет на самом деле, чтобы вслед за американскими интеллектуалами российские интеллигенты разбрелись по узкопрофессиональным гильдиям, бросив читать общегуманитарные «толстые журналы». Но со времен Петра Струве существует идеал нового интеллигента, который осознал необходимость личной «годности» и ответственности за производимую интеллектуальную экспертизу. Будь то литературная критика, история или социальная теория.
Проект постмодерна в его популярном варианте противостоит идее всякой интеллектуальной ответственности; тщательная подготовка к анализу проблемы не имеет смысла, потому что реальный диалог с существующими исследовательскими традициями невозможен. По идее, любой человек, знакомый с азами «деконструкции», с базовой терминологией и с соответствующими эстетическими вкусами, может оценивать работу «традиционных» профессионалов и создавать артефакты, в свою очередь экспертизе этих профессионалов неподсудные. Эта перспектива выглядит куда соблазнительнее альтернативного пути: образования, интеллектуальной дисциплины, надежды приблизиться к истине и сознания того, что в наших силах лишь обозначить территорию, где ее нет…
Однако просто написать, что постмодерн, как мы его видим, – интеллектуальное надувательство и тупик, особенно в современных условиях России, – значит примитивно обозвать почтенный и вполне укоренившийся у нас институт. Так получилось, что я случайно оказался в самом центре современного постмодернистского литературоведческого процесса, и мое свидетельство «внутреннего наблюдателя» имеет, как раньше говорили, ценность исторического документа.
Читать дальше