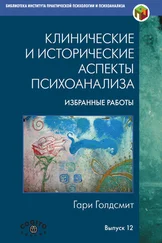Человек существует в двух измерениях: микро и макро – в собственно человеческом мире и в мире больших культурно-исторических процессов (не путать с Хайдеггеровыми понятиями Dasein и das Man). Первый мир – это «человеческое, слишком человеческое», по Ницше, или «жизненный мир» в терминах современной социальной философии (Н. Луман, Ю. Хабермас). Второй – мир социокультурных структур, институтов и отношений, смысл и законы жизни которых раскрываются в долгом историческом времени. Этот «внешний» человеку мир всегда предстаёт в значительной степени отчуждённым, и природа его недружелюбна и загадочна.
Обыкновенный человек, как правило, не любит конфликтов и перемен и, не понимая, как устроен мир за пределами его социально-бытового кругозора, полагает, что законы и правила его «малого бытия» могут и должны быть перенесены и на макроуровни. Опыт истории бесчисленное множество раз нагляднейшим образом доказывал несостоятельность и абсурдность такого подхода. Но упорные попытки навязать истории трижды условные моральные нормы и вообще подходить к ней с этическими мерками – заблуждение, свойственное не только обыденному сознанию.
Сколько бы опыт ни вторил, что модели межчеловеческих отношений никак не могут быть экстраполированы на большие культурно-исторические процессы, морализаторский взгляд на историческое бытие продолжает искажать действительное положение дел: миф (в леви-брюлевсом смысле) по-прежнему господствует над опытом. За такие экстраполяции всегда приходится платить. Иногда очень дорого. И не одними только ритуальными плачами о смерти бога и причитаниями «куда он смотрел?!» Законы большого системного мира действуют принципиально по-иному, чем законы малого, а их граница, пролегая между миром человека и миром культуры, указывает на диалектическую ситуацию двойной субъектности: устремляясь к разным целям, субъектность человека и субъектность культуры взаимно обуславливают друг друга и полемизируют меж собой в своём историческом генезисе (см. гл.6 данной работы). Когда же выясняется, что законы макроуровня, т. е. жизни и смерти культурных систем, совершенно не соотносятся с человеческим (слишком человеческим!) измерением, «мыслящему тростнику» только и остаётся, что роптать или от обиды объявлять эти законы несуществующими, находя «утешение» в разных версиях фатализма.
Почему я начинаю своё притязающее на серьёзность исследование с таких почти публицистических алармистских пассажей? Потому что реальность системного кризиса уже близка и ощутима, и мысли о «гамбургском счёте» всех современных социальных практик, в том числе и интеллектуальных, становятся пугающе актуальными. Это уже не пошлый вопрос о практическом значении гуманитарной науки. Это вопрос о её способности действенно участвовать в решении экзистенциальных проблем нынешнего дня и ближайшего будущего.
Так что же остаётся науке в условиях закономерного кризиса онтологии, когда реальность едва просвечивает сквозь обманчивые обёртки знаков, не говоря уже о кризисе методологии, выработавшем у нынешнего поколения учёных устойчивый невротический ужас перед построением широких объяснительных теорий? Уйти в себя? Закопаться в мелочах, чтобы не видеть ужаса общей картины, подобно одному из последних римлян, который наслаждался созерцанием фонтана в своём садике, чтобы не думать о гибели империи? Или продолжать академические дисциплинарные игры, отмахиваясь от мысли, что всё это канет в лету, будет отброшено и забыто? Да, открытые Просвещением petits bonheurs [6] Маленькие радости (франц).
сослужили добрую службу постмодернистам. Но, играя в детство, старость не обманешь. И не скроешься от проклятых вопросов: КТО МЫ, ОТКУДА, КУДА ИДЁМ? Быть может, это ложная надежда, но хочется думать, что чем глубже мы продвинемся в поисках ответов на эти сакраментальные вопросы, тем больше вероятность того, что наши ответы будут востребованы теми, кто придёт после нас, и мы тем самым избежим небытия.
На пути решения означенных вопросов яснее всего обнаруживается исчерпанность узко дисциплинарных подходов. Но дело даже не только в самой их узости. Связывая содержание знания с понятийным, терминологическим и методологическим инструментарием, сознание рано или поздно забывает о служебном, подчиненном характере этой связи, и дискурс окукливается, замыкаясь на себя и превращаясь в самодовлеющую игру. Происходит это, как правило, незаметно для самих играющих. Здесь нет ничего удивительного: всякая сфера познания, как и всякая подсистема культуры вообще, обособляясь, отпочковываясь, «отслаиваясь» от синкретического целого, вырабатывает и воспроизводит в себе характеристики исходной целостности и, достигая определённой стадии зрелости, с неизбежностью инвертирует предмет и средства познания. Так произошло с философией, окончательно утратившей живую связь с реальностью и почившую в нарциссическом самосозерцании пресыщенного и разочарованного в себе самом интеллекта, комментирующей комментарии к комментариям и ловящей отблески многократно отражённых друг в друге отражений [7] Того, что философия не более чем частная сфера культуры, подчиняющаяся законам самоорганизации общекультурного целого, а не трансцендентному культуре «абсолютным наблюдателем», не замечают разве что сами философы, давно, впрочем, махнувшие рукой на свои «прямые обязанности» – объяснение мира как целого и разработку методологии частных наук. Потому их уныло-кокетливые предвидения того, что в XXI веке философии не будет, скорее всего, оправданы.
. Так произошло и с искусством, точнее, с его традиционными формами, где, согласно предсказаниям Гегеля [8] «Здесь видимость предметов как таковая составляет подлинное содержание, но искусство, схватывая мимолётный внешний вид, идёт ещё дальше, независимо от предметов, изобразительные средства становятся сами по себе целью, так что субъективное мастерство и применение художественных средств сами возводятся до уровня объективных предметов художественных произведений… Подобно тому, как дух, мысля, постигая, воспроизводит для себя мир в представлениях и мыслях, так теперь главной задачей становится (независимо от какого-либо предмета) субъективное воссоздание внешнего вида с помощью чувственного элемента красок и освещения» [58, с. 311].
, форма и содержание поменялись местами. Так происходит и в науке, вслед за философией неизменно приходящей к инверсии своего предмета и инструментария.
Читать дальше
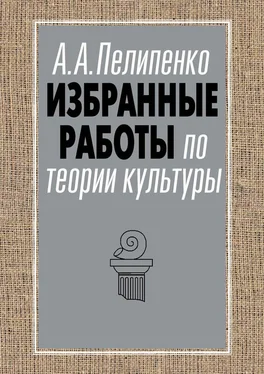



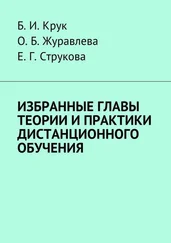
![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/407741/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po-thumb.webp)