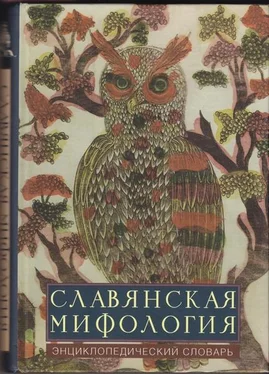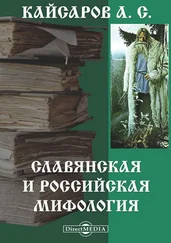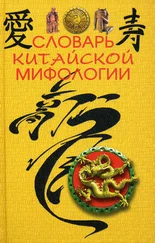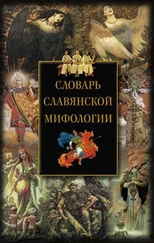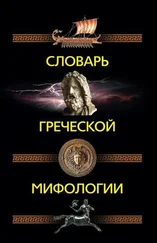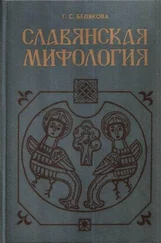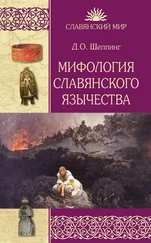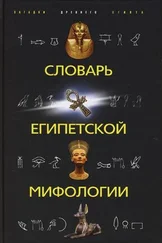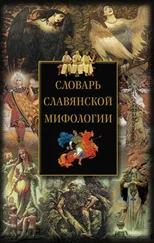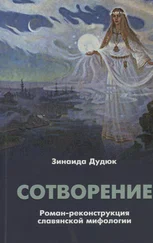Мифологический символ или знак, а также эмблема (нарисованный знак) могут быть наделены одновременно несколькими смыслами. Так, например, дождь — небесная влага в облике туч — может быть не только молоком, но и семенем, оплодотворяющим землю. Такой смысл строится на противопоставлении «мужской — женский», «оплодотворяющий — оплодотворяемый, способный к зачатию и рождению». Так, например, в польской и сербской загадках «высокий тятька» расшифровывается как «небо», а «плоская мамка» — как «земля» (в то время как зять — «ветер», а девушка — «мгла»), что указывает на восприятие неба как мужского начала, а земли как начала женского. Аналогичные определения неба и земли известны в русских заговорах: небо — отец, а земля — мать.
Что касается формулы «мать-земля», то она широко известна у славян, в особенности у русских («мать-сыра земля») и сербов, и является не просто образным словосочетанием, а выражением сущности народных взглядов на землю, которая в русской традиции имеет еще эпитет «святая». Отношение к земле как к женскому началу, рождающему и плодоносящему, характерно не только для индоевропейской традиции, но и для древней Евразии в целом. Восточные славяне, в первую очередь русские, сохранили культ матери-земли в его очень архаических проявлениях, к которым относится запрещение бить землю палкой или чем-либо иным (кроме случаев ритуального битья, направленного на обеспечение плодородия), тревожить землю до Благовещения, пахать, вбивать в нее колья и т. п., плевать на землю (как и в огонь). Болгары в Западных Родопах считали, что, если землю пахать до Благовещения, из нее будет сочиться кровь. Нарушение перечисленных запретов могло привести к засухе и другим бедам. Широко известны обращение к земле и использование ее при клятвах, когда землю брали в рот, ели ее, клали кусок дерна на голову: считалось, что земля праведна и не терпит неправды, она наказывает за клятвопреступление. Вера в святость, божественное начало и одухотворенность земли выступает в народном таинстве исповеди земле (получившем отражение в заключительной части романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»).
Белорусские представления о беременности земли до Благовещения и запреты обрабатывать землю до этого дня связаны с древнеславянским делением года на два периода — лето и зиму. Весна и осень считались лишь начальной порой лета и зимы, порой, предвещающей пробуждение земли, отмечающей это пробуждение, и порой, означающей засыпание земли, временное омертвение природы. Названия «лето» и «зима» одинаковы во всех славянских языках. Более того, лето в ряде славянских языков, в древнерусском и старославянском, означало «год», а исчисление годов мы до сих пор называем «летосчислением». Но лето и зима, видимо, у древних славян также делились на две части: рубеж приходился на день или ряд дней, когда лето и зима были в разгаре, на их «преполовение» (говоря языком церковного календаря). Таким образом, можно предположить, что в древнеславянском языческом аграрном календаре также были четыре точки, делящие год как бы на четыре части, но они не совпадали с современным европейским делением года на четыре сезона. Это древнее деление соответствовало или подчинялось периодам солнечного цикла, дням равноденствия и солнцеворота.
Уже упоминавшийся нами праздник Благовещения приходится на время весеннего равноденствия, а Воздвижение — осеннего равноденствия. Это — рубежи, когда земля «пробуждается ото сна» и «отходит ко сну», к зимней спячке. Почти у всех славян эти дни связаны с культом змей. На Благовещение змеи выходят из земли, а на Воздвижение они уходят в землю, и потому, по русскому поверью, в этот день нельзя ходить в лес. Две другие праздничные даты — рубежи времени: зимой — Рождество Христово и в середине лета — Рождество св. Иоанна Предтечи, более известное как Иван Купала (24.VI. ст. ст., 7.VII. нов. ст.), — почти совпадают с днями зимнего и летнего солнцеворота. Показательно, что на Ивана Купалу празднуется одна ночь — «купальская» ночь, а на Рождество — 12 дней от Сочельника до Крещения: от этих дней зависит судьба всего года. Эти дни у русских называются святками (святые вечера и страшн ы е вечера), у южных славян (сербов, болгар, македонцев) — некрещеными или погаными днями. Они заполнены языческими ритуалами и действиями с ряжением, хождением по домам групп колядовщиков и ряженых, с обрядовыми бесчинствами, гаданиями и т. п., знаменующими начало нового аграрного года, поворот зимы на лето. Не менее ярко окрашены языческим духом обрядовые акты, совершаемые в «купальскую» ночь: возжигание огней у воды и прыганье через них, бросание венков в воду, купание, совершение бесчинств и общение с нечистой силой (против которой принимается ряд предохранительных мер).
Читать дальше