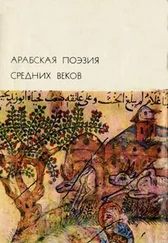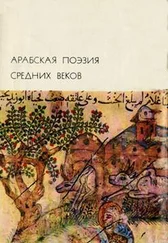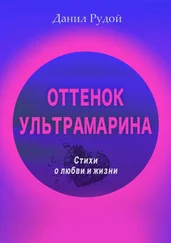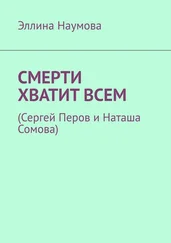Аййам ал-'араб ) и свитков доисламских певцов, стихотворных сборников панегиристов и увесистых томов «Тысячи и одной ночи». Иными словами, современный арабских стих – это почти всегда
стих кон текста , соединяющий воедино «атомы» смыслов целой группы других отрывков и их героев. Что достаточно характерно и для средневекового философского трактата
[1] См.: Смирнов А. В. Архитектоника сознания и архитектоника текста (вместо введения к «Наставлениям ищущему Бога») // Ибн Араби. Избранное. Т. 2. М., 2014. С. 339–345.
.
Суфийский трактат требует от своего читателя напряженного усилия – не только интеллектуального, но и духовного. Таковы «издержки» любого мистического учения, корнями уходящего в глубь теории, а ветвями подпирающего «вечно зеленеющую» практику. Этим аксиомам подчиняется и современный арабский поэт, предполагающий в любом памфлете или написанном «по случаю» отрывке двойное, а то и тройное смысловое, семантическое и герменевтическое, «дно». Европейский критик сухо заметил бы, что в таком случае современную арабскую поэзию можно – и нужно – называть философской. Возможно, подобное замечание и справедливо – с той только поправкой, что «философичной» придется назвать саму поэтику современной арабской литературы, не смеющей порывать с оригинальной концептосферой культуры. Каждый, кто открывает очередной диван арабоязычного поэта или роман по-арабски пишущего прозаика, по умолчанию принимает условия чуть ли не мистической игры «с обирания рассыпанных» смыслов в погоне за целостностью произведения – пусть и самого маленького, походя написанного. В этом мире обычная поэтическая метафора закономерно превосходит самое себя: из средства художественной выразительности она вырастает в символ, содержащий смысл-истину и приводящий к нему. Поэзия возвращается в религиозное русло, прорытое идеологами «светского искусства», а образ обретает символическое значение, отчасти предшествующее тексту, отчасти – опосредованное им.
* * *
Согласно завету ар-Руми, принятому во внимание иракским лириком 'Аднаном ас-Са’игом (род. 1955) в стихотворении «Любовная карточка», настоящий мистик должен отказаться от всего сущего – включая «покрова сердца» – для того, чтобы приобрести всю полноту существования. Известно, что «аннигиляция» ( фана’ ) суфия в самости Божества тем и отличается от буддийского пути, что, теряя личные каче ства в собственном понимании, мистик не лишается чувств и не сливается, потеряв себя, с неразличенностью высшей реальности; напротив – экстатическое состояние человека должно завершиться осознанным единством с Истиной, цело-мудренным , вечным вхождением в сверхчувственное [2] См., напр.: Кныш А. Д . Мусульманский мистицизм. Краткая история / Пер. с англ. М. Г. Романова. СПб., 2004. С. 359–360.
. Точно так же читатель современного арабского стиха и его создатель обязаны отказаться от себя как от явления преходящего , дабы собрать искомые в поэтическом сборнике смыслы «арабской вечности».
«Смерть человека», так сильно потрясшая мир западного постмодерна, практически никак не сказалась на араб ском литературном поле, насквозь пропитанном скепсисом суфийского познания. Диалектика арабского стиха ХХ в. в общих своих чертах есть диалектика суфийского текста, для которого важен не столько сам читатель, сколько скрытая за явленными знаками Истина истин. Арабский поэт Новейшег о v времени – это поэт «мертвый» (причем умерший задолго до М. Фуко) и вместе с тем взыскующий жизни. Он знает, что язык предшествует всякой записанной им выговоренно сти; не сомневается он и в том, что субъект, субъективность и объект – контурные линии дискуссий «новой» Европы об онтологии литературы – бесконечно определяют друг друга в связи взаимного перехода. Вот почему порой бывает настолько сложно дойти до истинного, а не «словарного», историче ского смысла использованной в том или ином стихо творении метафоры или метонимии: автор требует от читателя быть одновременно и текстом, и его, текста, творцом-реципиентом, чтобы иметь право о нем говорить. Недостаточно читать и сопоставлять : внутренняя жизнь текста ищет своего повторения в жизни заново его пишущего читателя. То, что Ж. Делез и М. Фуко называют «силой субъекта», его «властью», берущей индивида в кратковременный плен множественных «позиций высказываний» [3] См.: Делез Ж. Ницше и философия / Пер. с фр. О. Хомы. М., 2003; Делез Ж. Фуко / Пер. с фр. Е. В. Семиной. М., 1998.
, было прекрасно известно и инженерам современных арабских поэм по праву их суфийского «происхождения».
Читать дальше
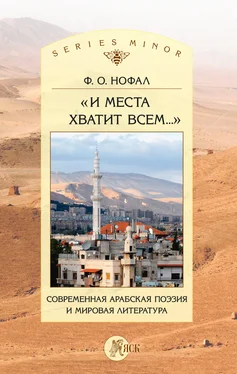

![Валерий Медведев - Библиотека мировой литературы для детей, т. 29, кн. 3 [Повести и рассказы]](/books/33366/valerij-medvedev-biblioteka-mirovoj-literatury-dlya-thumb.webp)