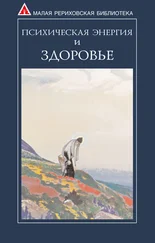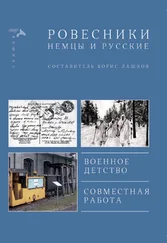Самым очевидным свидетельством того, что неизбежное прощание с романтической традицией можно продемонстрировать, обратившись именно к теме импровизации, являются «Египетские ночи» Пушкина (1835; изданы посмертно в 1837 году лицами, распоряжавшимися архивом поэта) [30] См.: Ibid. P. 216 и далее.
. В этой неоконченной повести, включающей также два стихотворения (они внесены в текст первыми издателями, но вполне вероятно, что и Пушкин хотел их использовать), резко очерчена проблема романтического поэта и таким образом инсценируется постромантическая дилемма 1830-х годов. К Чарскому – богатому аристократу, петербургскому денди и поэту – приходит бедный, одетый как фигляр, импровизатор итальянец и просит покровительства. Чарский сомневается в его способностях, затем происходит своего рода репетиция, без публики, импровизатору предлагается провокационная тема: толпа не имеет права управлять вдохновением поэта. Выслушав импровизацию, Чарский изумлен и растроган, но беседовать о своем таланте итальянец отказывается – его интересует лишь гонорар. Чарский устраивает итальянцу выступление перед публикой и участвует в выборе темы для импровизации. Теперь ею становится рассказ одного древнеримского автора (знакомый Пушкину, вероятно, из «Эмиля» Руссо) – о том, что Клеопатра назначала смерть ценой своей любви [31] В 1845 году этот сюжет стал известен благодаря новелле Теофиля Готье «Ночь Клеопатры».
. На второй импровизации итальянца фрагмент обрывается.
Сложная композиционная структура «Египетских ночей» хорошо исследована, здесь мы можем лишь указать на некоторые ее черты. В особенности важно использование более ранних фрагментов (как в рамочном повествовании, так и в стихотворных импровизациях итальянца) [32] См. об этом: O’Bell L . Pushkin’s Egyptian Nights. The biography of a work. Ann Arbor: Ardis, 1984.
, а также многоуровневая «инсценировка» поэтического процесса. При этом происходит многократное противопоставление смыслов, на котором мы не будем останавливаться подробно, – упомянем, однако, что именно оно подорвало привычные представления о природе поэзии, характерные для 1820-х годов. Первая импровизация восходит к одному из более ранних текстов Пушкина. Строки, в которых приводится – в гротескном противоречии с контекстом – романтическая максима (получившая известность в формулировке Шлегеля) [33] Фрагмент 116-й: «…и как свой первый закон признает то, что воля поэта не терпит над собой никакого закона».
о том, что поэт не знает над собой закона («Затем, что ветру и орлу / И сердцу девы нет закона»), представляют собой цитату из поэмы «Езерский» (1832/1833) [34] В «Езерском» этой мысли соответствуют тринадцать стихов, начиная с «Зачем крутится ветр в овраге…», но концовка слегка изменена.
. Так поэт, который «бродит без цели», отвечает на требование посвящать стихи возвышенным предметам. В «Езерском» же автор-рассказчик отвечает на предполагаемый вопрос публики, почему он сделал своим героем не великого человека, а отпрыска обедневшего боярского рода. В этих строках воспроизводится позиция пушкинских стихотворений 1820-х годов о поэте и поэзии. Однако в «Египетских ночах» они вложены в уста заезжего импровизатора и поэтому звучат двусмысленно; более того, не зная других стихотворений Пушкина, их можно было бы ложно истолковать как пародию.
Подобное происходит и в случае второй, публичной, импровизации итальянца. Ее текст – стихотворение «Клеопатра», первый вариант которого относится к 1824 году; поэт неоднократно пытался подобрать подходящее прозаическое обрамление для этих стихов. Вызов Клеопатры – оплатить ночь ее любви ценой жизни – принимают трое: «поседелый» воин, молодой «мудрец» и безымянный юноша, с сердцем полным кипящих страстей. Стихотворение, несмотря на его общий фрагментарный характер, заканчивается неожиданным поворотом: гордая царица молча долго любуется невинным, неопытным юношей, в чем можно увидеть косвенное указание, что он и есть подлинно поэтический герой. В последнем переработанном варианте стихотворения Клеопатра изображалась уже не как неприступная властительница, а как томящаяся страстью женщина, субъект вожделений и романтического ennui. Ее вызов, суть которого состоит в обмене не подлежащих обмену величин, опять-таки затрагивает самое существо романтизма: смерть (жизнь) едва ли можно назвать объектом обмена. Здесь прослеживается аналогия с темой первой импровизации: несоизмеримость подлинной поэзии с чем бы то ни было.
Читать дальше