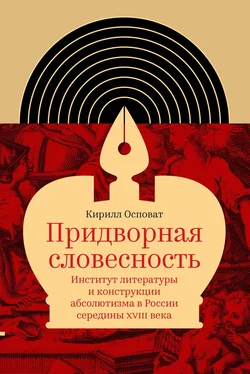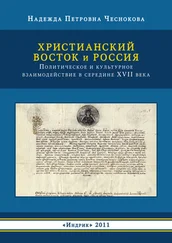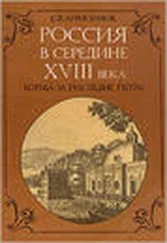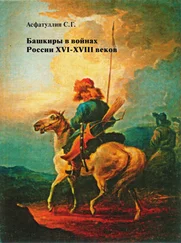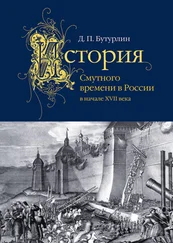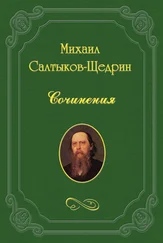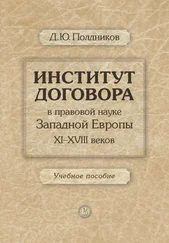Подходу Марена созвучен разбор словесных и живописных изображений Екатерины II в «Очерках…» и других работах Лотмана. В панегирическом портрете монархини Лотман опознает напряжение между «вещью» и «знаком, требующим включенности в определенную систему государственной символики»: «<���…> лицо Екатерины II и орел у ее ног на известной картине Левицкого дают различную меру условности (лицо изображает лицо, а орел изображает власть)» (Лотман 1996, 134; Лотман 1992а, 269). Вместо старинной семиотической безусловности главным символическим ресурсом обновленного Петром самодержавия оказывается условность и вымысел нового искусства. В этой перспективе оживает и традиционный тезис Лотмана о том, что Феофан Прокопович и Ломоносов, главные придворные писатели своего времени, привержены «государственности в ее идеальной <���…> ипостаси» (Лотман 1996, 95). Сама идея государства формируется и распространяется – в эпоху, не знавшую вездесущего бюрократического аппарата, – при помощи аппаратов фикции .
Во второй главе «Очерков…», «Литература в контексте русской культуры XVIII века», Лотман (как позже Виктория Кан) выводит из процесса политической секуляризации становление светской словесности Нового времени:
<���…> когда место религиозного авторитета оказалось вакантным, его заняло искусство Слова. <���…> Отношение литературы к послепетровской государственности особенно ярко выделяет природу места, занятого ею в общем контексте культуры. <���…> В новом секуляризованном государстве церкви было отведено место пропагандиста правительственных мероприятий, официального публициста, действующего на подданных не средствами внешнего принуждения, единственно доступными правительству, а внутреннего убеждения. <���…> Поскольку одновременно и светская литература петровской эпохи была отчетливо публицистична, от литературы власть ждала того же – пропаганды своей программы, сакрализации главы государства, публицистичности и панегириков. Литературное слово облекалось авторитетом государства, сакрализовалось за счет обожествления светской власти (Лотман 1996, 89, 92–93).
Отказываясь от привычной герменевтики, полагающей предельный горизонт литературоведческого анализа в абсолютной субъектности Автора, Лотман вписывает вопросы об авторе, тексте и читателе в общую историю политико-символических форм и определенной ими «социальной психологии». Авторство оказывается в тени авторитета, претерпевшего в петровскую эпоху масштабные сдвиги. Литература – светские сочинения, отвечающие определениям поэзии или вымысла, – служит медиумом, в котором секулярная политика усваивает себе регулятивно-дисциплинарные полномочия духовной словесности и ее власть над моделями субъектности.
В средоточии этой констелляции Лотман совершенно точно распознает вопрос о «внешнем принуждении» и «внутреннем убеждении» как конкурирующих источниках личной и всеобщей покорности властям. Диалектическая зависимость секулярного государства от церкви объяснялась, в частности, политико-богословской структурой веры , делавшей послушание авторитету сущностным ядром субъектности и переживания себя. В проповедях Феофана – согласовывавшихся с общеевропейской практикой политико-религиозного дисциплинирования подданных – Б. П. Маслов усматривает «фукольтианскую модель власти, пронизывающей все общество». По заключению исследователя, «не менее значимым и долговечным изобретением петровского времени, чем новая идеология царской власти, был новый тип субъективности: на основе представления о задолженности христианина появляется концепция гражданского долга как внутреннего нравственного императива» (Маслов 2009, 245–247).
Действительно, трактат С. Пуфендорфа «О должности человека и гражданина» (1673), вышедший по-русски по личному распоряжению Петра I в 1726 г., видит в «учении христианском» способ управлять «волями всех граждан» в интересах политической устойчивости и верховного правления:
Ко внутренной же тишине всего града надлежит, дабы воли всех граждан тако умерены и управляеми были, как до целости града надлежит. И потому высочаиших повелителеи должность есть не токмо приличныя тому концу законы уставлять, но и общее учение тако узаконять <���…> для того конца надлежит такожде тщатися, да бы учение христианское чистое истинное в граде процветало, и в училищах народных таковое учение проповедуемо было, которое благосостоянию и концу града есть приличное (Пуфендорф 1726, 453–454).
Читать дальше