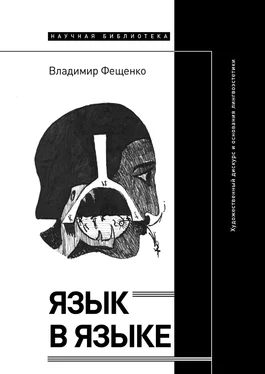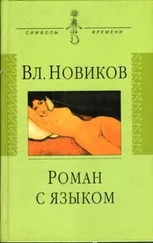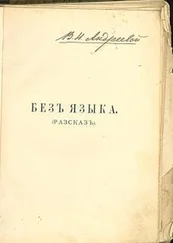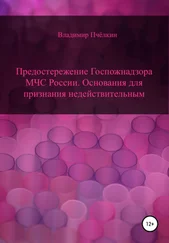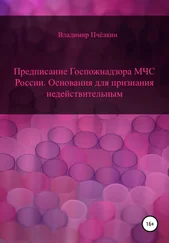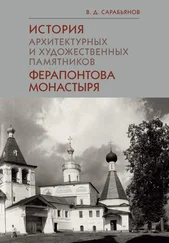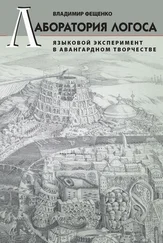О «языковом творчестве» рассуждал и Р. О. Якобсон в связи с традицией гумбольдтианства. Субъект, говорящий на языке как социальной системе, считает он, осуществляет индивидуальный творческий акт. И наоборот:
…конвенция, язык как социальная ценность реализуется только в индивидуальной речи, в индивидуальном уникальном творческом акте, который сохраняет язык, обеспечивает непрестанное действие языковой конвенции и одновременно в чем-то ее необходимым образом изменяет, ибо творческий акт всегда привносит нечто новое, то есть непременно нарушает эту конвенцию [Якобсон 2011: 34].
Творчество в языке, следовательно, связывается им с нарушением и преодолением конвенции системы. В понятии языкового творчества заключена, согласно Якобсону, не только антиномия языка и речи, но также дихотомия «норма (конвенция) – отклонение (нарушение конвенции)»:
В действительности и язык как социальная ценность, язык в его социальном аспекте является одновременно предметом, объектом, ergon, – и творчеством, энергией, и в то же время обе эти ипостаси объединяет язык отдельной личности – с одной стороны, это индивидуальное достояние, индивидуальная застывшая норма, с другой стороны – неповторимый акт творчества [там же: 45].
Таким образом, в якобсоновской концепции линия Гумбольдта и линия Соссюра (с которой он, впрочем, постоянно дискутировал) скрещиваются, и понятие языка как творчества получает новое наполнение, заимствующее черты обеих традиций.
Гумбольдтовская идея языка как творческого процесса нашла оригинальное продолжение в современном Р. Якобсону учении М. Хайдеггера об истоке художественного творения [Хайдеггер 1993а]. Согласно этому учению, в художнике – исток творения, а в творении – исток художника. Но в поэтическом творчестве еще одним источником творения выступает язык. Х.‐Г. Гадамер так резюмирует хайдеггеровскую идею:
Творение языка – это изначальнейшее поэтическое творение бытия. Мышление, способное мыслить все искусство как поэзию, раскрывая языковое бытие всякого художественного творения, само еще находится на пути к языку [Гадамер 1993: 132].
Согласно этой концепции, творческий процесс в языке представляет собой внутренний саморазвивающийся и рефлексивный процесс, своего рода творчество в квадрате.
На В. В. Виноградове и отчасти Р. О. Якобсоне в русской науке и на М. Хайдеггере с Х.‐Г. Гадамером в немецкой философии гумбольдтианская линия творческого подхода к языку приостанавливается, уступая место более актуальным во второй половине ХХ века структуралистским концепциям, согласно которым язык изучается не как процесс, а как самозамкнутая система и механизм воспроизводства языковых элементов и структур (см. об этом [Алпатов 2010]). Однако в определенный момент структурализм все же вновь поворачивает свой взгляд на В. фон Гумбольдта.
Так, Н. Хомский, в этом отношении неявно ориентирующийся на немецких романтиков, языковую способность трактует как творческий процесс порождения языковых форм, которые производятся или интерпретируются говорящими впервые. Эпитет «творческий» при этом обозначает у него свободу и множественность целей языкового употребления:
Человек как вид наделен совершенно специфической особенностью, он обладает уникальным типом умственной организации, которую нельзя объяснить строением периферийных органов или связать с общими особенностями его интеллекта; она находит свое проявление в том, что можно назвать «творческим аспектом» повседневного пользования языком, когда обнаруживаются такие его свойства, как безграничная множественность целей и свобода от контроля посредством внешней стимуляции [Хомский 2005: 25] 36 36 В этой связи О. К. Ирисханова отмечает, что к середине ХХ века в лингвистике «растет осознание того, что способность творческого применения языковых форм – это только внешнее проявление глубинных процессов, происходящих на уровне нашего сознания. С этой точки зрения поиск и нахождение новых языковых форм – это отражение поиска, передачи, объективации нового мыслительного (концептуального) содержания. Все это неизбежно приводит к необходимости рассмотреть проблему связи языкового творчества с теми знаниями о мире и языке, которыми располагает человек, и с его повседневной деятельностью [Ирисханова 2004: 25].
.
С другой стороны, в рамках советского языкознания к 1970‐м годам тоже вновь проступают черты деятельностного и энергийного подхода. На нем отчасти основано учение о языковых моделях А. Ф. Лосева [Лосев 1968], обращавшегося к гумбольдтианским идеям еще в своей ранней «Философии имени». К 1980‐м годам в академическом языкознании возникает термин «лингвокреативное мышление» [Серебренников 1988] 37 37 Ср. также с термином «креативная лингвистика» в [Алейников 1988].
. Некоторые постулаты деятельностной лингвистики развивает В. В. Налимов в своей «вероятностной модели языка» [Налимов 2003], а переводчик Гумбольдта на русский Г. Рамишвили разрабатывает свое оригинальное учение о языке как творческом процессе [Рамишвили 1978].
Читать дальше