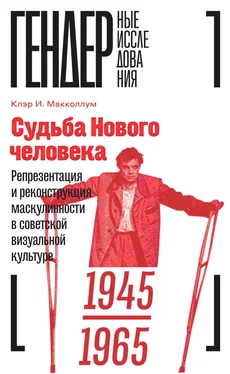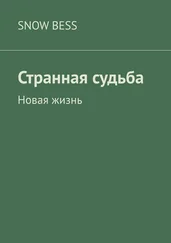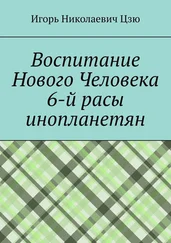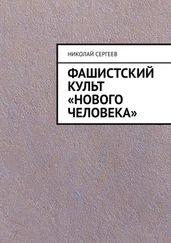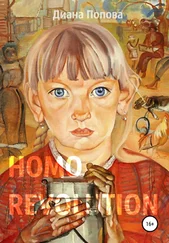Итак, мы подходим к последнему из жанров, где осваивалась тема искалеченного тела, занявшему значительное место в печатной культуре 1960‐х годов: речь идет о военных мемориалах, наиболее значимым из которых был уже упоминавшийся новый мемориальный комплексе, открывшийся в Волгограде (бывшем Сталинграде) в октябре 1967 года.
Планы комплекса были разработаны еще в 1958 году — это был самый масштабный мемориал, который предстояло построить в начальный период реабилитации памяти о войне, причем это место было наиболее тесно связано с мифологией войны (возможно, за исключением мемориала в Ленинграде — Пискаревского кладбища). Как будет показано в следующей главе, основной акцент в его композиции сделан на скульптуре Евгения Вучетича, обессмертившей волгоградский комплекс — вскидывающей руку с мечом мстящей Родины-матери на вершине Мамаева кургана. В действительности этот мемориальный комплекс дает гораздо более разноплановое представление о советском военном опыте. Помимо еще одного монументального произведения Вучетича — скульптуры скорбящей матери, баюкающей тело своего мертвого сына у «озера слез», — мемориал включает зону, известную как площадь Героев, на краю которой находится искусственное озеро, символизирующее Волгу, с шестью парными скульптурами. Пять из этих шести скульптур, созданных Вучетичем (сам он был тяжело ранен во время войны) [295] в 1961–1963 годах, изображают раненых солдат — в дальнейшем им будет отведено одно из самых заметных мест в материале о мемориальном комплексе, опубликованном в октябрьском номере «Огонька» (1965), за два года до его официального открытия [296].
В некотором смысле скульптуры Вучетича представляют собой предельное выражение той двусмысленности, что окружала изображение искалеченного войной человека. В облике этих скульптур сохранились мотивы, сформировавшиеся в ходе войны, когда ранение было признаком храбрости, хотя при этом центр мемориала символизирует цену, которую заплатили советские солдаты за победу.
Кроме того, как и предшествующие работы наподобие плаката Кокорекина «За Родину!», эти скульптуры не дают отчетливого представления о раненом мужчине, поскольку причиненные ему увечья (не показанные открыто) смягчаются тем обстоятельством, что в каждом случае их понес человек, прежде находившийся в отменной физической форме, что вновь превращает израненное тело в маркер отважного подвига и морального превосходства. В то же время нельзя упускать из виду, что в момент публикации фотографий мемориала на первой полосе «Комсомольской правды» в октябре 1967 года в ознаменование его официального открытия или в «Огоньке» месяц спустя в рамках празднования 50-летней годовщины Октябрьской революции именно соположение мстящей Родины-матери и раненого солдата считалось подобающим для этих исторических поводов [297].
Несмотря на тектонические изменения, которые происходили в Советском Союзе начиная с 1941 года, в визуальной репрезентации израненного человеческого тела обнаруживается примечательная последовательность. Хотя процессы, ассоциировавшиеся с десталинизацией, изменили память о войне и оказали существенное влияние на культурное производство, ни меняющийся социальный контекст, ни либерализация художественной среды в целом не повлияли на то, каким образом изображалось раненое мужское тело. За очень немногими исключениями, вплоть до середины 1960‐х годов раненый мужчина продолжал изображаться в манере, сложившейся на плакате военного времени, где ранение оставалось признаком настоящей решимости и патриотизма. Это не означает, что наделять ранения героическим ореолом было свойственно только Советскому государству: соответствующий идеал обнаруживается и у Гомера, и у Шекспира, не говоря уже о множестве других произведений мировой культуры. Однако связь между телом и непоколебимой решимостью была переосмыслена и стала символом уникального советского типа героизма. Но несмотря на то что образ раненого тела был устойчивой составляющей визуальной репрезентации советского мужчины на войне, оно изображалось очень ограниченно: ранение либо оказывалось сравнительно неопасным, либо выступало признаком готовности умереть за родину. До 1964 года почти невозможно говорить о визуальном изображении инвалидности.
Изменение в визуальном воплощении израненного мужского тела произошло не в период оттепели, как можно было бы ожидать, а в середине 1960‐х годов, на пике культа войны. Несмотря на то, что актуализацию этого события можно рассматривать как политически просчитанный шаг со стороны брежневского режима, факт остается фактом: начиная с 1964 года визуальная культура наконец стала обращать внимание на раны, нанесенные советскому народу (как в физическом, так и в психологическом смысле), с отсутствовавшими прежде последовательностью и детализацией. Работы, рассмотренные выше, наряду с циклом картин Виктора Попкова 1966 года, посвященным вдовам Мезени, и «Земляками» Дмитрия Обозненко (1969) свидетельствуют об эмоциональном реализме, к которому стал прибегать большее количество художников. Как указывалось в предыдущей главе, поскольку темы поминовения и признания [жертв войны] впервые с 1945 года легитимно вносились в публичную сферу, свое место в итоге нашло множество высказываний, связанных с военным опытом. Визуальное воплощение последствий 1941–1945 годов во многом могло отставать от их изображения в других видах искусства, но изменения в образном конструировании войны, появившиеся после 1965 года, были одним из аспектов масштабного переосмысления значения Великой Отечественной войны для советского общества. Тем не менее важно помнить, что в подавляющем большинстве случаев это углубление военной темы не предполагало переосмысления способов изображения ранения и инвалидности — в этом смысле творчество Коржева не имеет аналогов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу