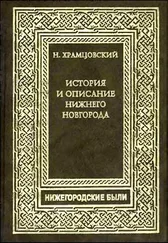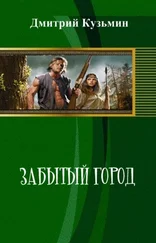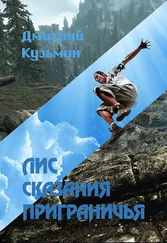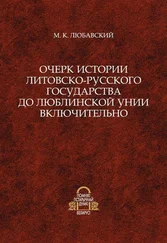Вот вполне показательный отзыв: «Его фирменное блюдо, принесшее ему всеобщую любовь и известность, – одностишия. Одностишия Вишневского цитируют, уже не вспоминая об авторе, они давно растворились в городском фольклоре, стали частью народной разговорной культуры» [Кучерская 2003].
Впрочем, Марина Цветаева в 1940 году отмечала в своей записной книжке, в связи с одной строкой Шарля Бодлера: «Сила японских однострочий, дальше писать нечего, ибо все дано» (запись от 4.12.1940) [Лубенникова 2010]. Любопытно, однако, что Иван Игнатьев уже в 1913 году, в манифесте «Эго-футуризм», усматривал в однострочных «поэмах» из книги Василиска Гнедова «Смерть искусству!» «электризованный, продолженный импрессионизм, особенно характерный для японской поэзии» [ЗА 1993, 93] – никак не заявляя, впрочем, корреляции этого метода с однострочной формой.
Местность, надо заметить, остается японской – и это не случайно: «Знаменитые местности в японской поэзии играли роль, близкую к сезонным словам: за каждой из них издавна стоял ряд ассоциаций. ‹…› Ёсино, Мацусима, Сиракава – давали поэтам прямой доступ к общему телу национальной поэзии. ‹…› В Америке, можно считать, не существует таких мест, за которыми закреплен устойчивый круг поэтических ассоциаций. А потому англоязычное хайку, если хочет быть жизнеспособным, должно опираться на другие измерения японской традиции» [Сиране 2002, 88–91]. В России, разумеется, дело обстоит так же, как в Америке.
Характерно в этом отношении, что в самом знаменитом хайку родоначальника этого жанра Мацуо Басё, известном по-русски в переводе Веры Марковой:
Старый пруд.
Прыгнула в воду лягушка.
Всплеск в тишине.
– как раз слово «тишина» в японском оригинале отсутствует, оно добавлено переводчиком [Кудря 1999, 76–77].
При строгом подходе (по Г.Л. Пермякову), возможно, не все эти речения могли бы претендовать на пословичный статус (так, Пермяков настаивает на обязательности метафорического переноса значения для всех элементов пословицы [Пермяков 1988, 46], что для входящих в состав речения имен собственных невозможно). Однако в данном случае распределение имитирующих фольклор текстов по жанровым прототипам не имеет принципиального значения: важнее само воспроизведение в текстах характерных элементов малой фольклорной формы: от фигуры противопоставления до внутренней рифмы и подбора личных имен по аллитерационному принципу (ср. еще у В.И. Даля: «Ко внешней одежде пословиц надо отнести и личные имена. Они большею частию взяты наудачу, либо для рифмы, созвучия, меры» [Даль 1994, 14]).
Вплоть до имитации – вполне возможно, что сознательной, – характерных особенностей поэтики некоторых других авторов, постоянно работающих с моностихом: так, текст Нирмала
Дождь. Между мною и небом дождь.
[Нирмал 2003, 27]
– единственный из 575 текстов его книги, в котором содержатся знаки препинания, – заметно близок к текстам Валентина Загорянского и в пунктуационно-интонационном аспекте (ср. стр. 341), и по содержанию (ср. стр. 258). См. подробнее [Кузьмин 2003b, 146–147].
Контекст мог бы актуализировать в слове «сахарный» сему белизны – но этого не позволяет однородность с определением «яичный», удерживающая и во втором прилагательном его относительный (а не качественный) статус.
По всей видимости метящим в культового поэта ленинградского самиздата Аркадия Драгомощенко, хотя собственно в текстах Александроченко на это ничто не указывает. Возможно увидеть в том, что игровой текст создается преимущественно авторами, представляющими свои тексты под псевдонимом, приближающимся к литературной маске, нечто большее, чем совпадение: из авторов, работающих с моностихом, к Бонифацию и Ананию Александроченко следует добавить в этом отношении еще поэта из города Тольятти, публикующегося под псевдонимом Айвенго (Андрей Стеценко; род. 1971):
в рассее все поэты молодые
[Вчера, сегодня, завтра 1997, 20]
– за текстами подобного рода стоит идеология литературы как источника самоценного удовольствия для автора и читателя, логически ведущая к нежеланию отождествлять те или иные тексты с определенной человеческой личностью.
Эта форма близка к предсказанному В.Ф. Маркову жанру «голых рифм», для которого он, однако, предлагал двустрочную запись [Марков 1994, 350], – в двустрочном варианте идея была реализована Германом Лукомниковым в книге [Бонифаций 1997].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу