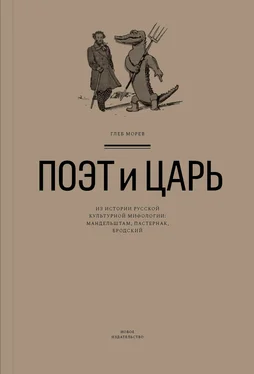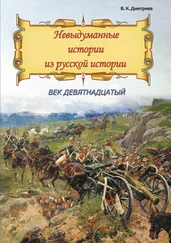1 ...8 9 10 12 13 14 ...60 Безусловно, публикация слов Сталина о Маяковском и во многом загадочная и заставляющая подозревать удачную аппаратную интригу «гиперболическая реакция властей» [67]на нее изменила советский литературный ландшафт, но, на наш взгляд, исходя из анализа текста Сталина в его соотношении с письмом Брик, очевидно, что, накладывая свою резолюцию, он менее всего думал об актуальной советской литературной иерархии и о месте в ней Пастернака.
В письме Сталину Пастернак, однако, реинтерпретирует его слова о Маяковском, помещая их в свой персональный контекст и выстраивая неочевидную для Сталина связь между его словами о Маяковском и работой самого Пастернака «в скромной тишине, с неожиданностями и таинственностями». Упоминание о «таинственности», которой Пастернак объясняет в письме свою «любовь и преданность» Сталину, возвращает нас к той «тайной» связи между поэтом и вождем, на которую Пастернак ссылался, утверждая свое право писать Сталину «по-своему». Потерпев неудачу при попытке выстроить прямую коммуникацию «о жизни и смерти» в личном разговоре, Пастернак отстаивает теперь существование некоей частной, чтобы не сказать интимной, линии, связывающей его со Сталиным и способной придавать персональное измерение, казалось бы, внешне не связанным событиям (таким, как резолюция о Маяковском и литературная судьба Пастернака).
Поэтическую легитимацию эта модель получит в написанных одновременно с письмом Сталину и опубликованных Бухариным в новогоднем номере «Известий» 1936 года стихах «Мне по душе строптивый норов…». Жертвуя здесь традиционной идеей равенства Поэта и Царя [68], Пастернак сосредотачивается на образе Сталина как «гения поступка» – им всецело занято внимание поэта, верящего, несмотря на осознаваемую им несопоставимость с вождем, в его знанье и память о нем:
И этим гением поступка
Так поглощен другой, поэт,
Что тяжелеет, словно губка,
Любою из его примет.
Как в этой двухголосой фуге
Он сам ни бесконечно мал,
Он верит в знанье друг о друге
Предельно крайних двух начал.
Позднее, в 1956 году, Пастернак назовет этот текст «искренней, одной из сильнейших (последней в этот период) попыткой жить думами времени и ему в тон» [69]. В мае 1936 года в Воронеже Мандельштам с «восторгом» [70]прочел эти стихи Пастернака: как мы увидим далее, в этот период им будет усвоена та же, базирующаяся на «вере в знанье друг о друге», модель отношений со Сталиным.
Возвращаясь к телефонному разговору Пастернака и Сталина, отметим, что неудовлетворенность им Пастернака известна [71]. Нетрудно вообразить, что эта неудовлетворенность была взаимной. Существенно то, что у нас есть свидетельство этой взаимности.
Весной 1958 года в британском левом ежеквартальнике The New Reasoner (№ 4) появилась анонимная статья, принадлежавшая новозеландскому дипломату Д.П. Костелло [72], в которой рассказывалось о разговоре Пастернака со Сталиным. Это было первое печатное сообщение об их беседе, которое восходило к рассказу самого Пастернака. По сообщению Е.Б. и Е.В. Пастернаков, в том же 1958 году разговор со Сталиным «был вновь неоднократно рассказан [Пастернаком] <���…> в связи с тем, что за границей появились упоминания, искажающие смысл этого разговора» [73]. Ряд мемуаристов связывают появление этих упоминаний с именем Эльзы Триоле, французской писательницы, жены Луи Арагона (с 1928 года) и младшей сестры Лили Брик.
Вяч. Вс. Иванов вспоминает о том, как в начале сентября 1958 года вместе с Р.О. Якобсоном посетил Пастернака в Переделкине: «В начале встречи Пастернак сказал нам, что хочет объяснить, как на самом деле обстояло дело со звонком ему Сталина по поводу Мандельштама. В это время, после выхода романа [„Доктор Живаго“], в заграничной левой и просоветской печати стали появляться статьи (например, Эльзы Триоле), направленные против Пастернака. Поэтому он хотел, чтобы мы знали правду об этой истории» [74]. 2 июля 1960 года Л.К. Чуковская записывает слова А.А. Ахматовой, которая «рассказала <���…> что в [парижской коммунистической газете под редакцией Арагона] „Les Lettres Françaises“ <���…> напечатано – с о слов Триоле – будто Мандельштама погубил Пастернак. Своим знаменитым разговором со Сталиным – когда Сталин позвонил Пастернаку по телефону после первого ареста Мандельштама» [75]. Это же утверждение повторено в писавшихся тогда же мемуарных заметках Ахматовой о Мандельштаме: «К акая-то Триолешка даже осмелилась написать (конечно, в пастернаковские дни [то есть во время кампании в связи с присуждением Б. Пастернаку Нобелевской премии – статья в газете „Les lettres françaises“]), что Борис погубил Осипа» [76]. Разговор с отцом 1 января 1959 года (без упоминания Триоле) вспоминает Е.Б. Пастернак: «Очень болезненно он воспринял мелькнувшее в западной прессе упоминание о том, что он плохо защищал Мандельштама перед Сталиным. – Откуда могла взяться такая чепуха? Ведь о разговоре со Сталиным по телефону известно только с моих слов – то, что я рассказывал, – в едь не Сталин же распространял эти сведения» [77].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу