При всем том… вспомни хорошенько. Не курьезно ли, что, встретившись на святой, мы часа полтора говорили о чем угодно, только не о том, что могло интересовать нас обоих? Это объясняется, конечно, тем, что мы оба чувствовали, что в нашу деловую жизнь ворвалось что-то новое, что разъединяет нас, отбрасывает нас на разные концы.
И, однако, это еще не повод к дурным отношениям. Что нам делить? Публику? Ее хватит. Притом же мне интереснее иметь ее, чем тебе, так как мне приходится охватывать и материальную сторону, а тебе только художественную. Репертуар? Ну, если бы даже он был у кого-нибудь из нас интереснее. Я всегда находил свой репертуар в школе интереснее твоего, а ты брал тем, чего я не мог достигнуть. Да мы и не мерили, не взвешивали, у кого что лучше. Когда тебе что нравилось, ты приходил и говорил. И наоборот. Отчего это не могло бы продолжаться и теперь? Замечательно ведь, что публика не имеет ни малейшего понятия о том, что эти два театра будут конкурировать. Нигде ты не услыхал бы об этом, кроме узкотеатральных кружков. Да и не способен ты относиться зло к делу, которое затеваю я, хотя бы оно было и тождественное с твоим. Причин надо искать в других местах.
{109}Злосчастное интервью Кугульского со мной?
Конечно, оно должно было взбесить тебя. Но я немедленно поправил все вранье интервьюера. Ты не мог не прочесть этой поправки. Моя огромная ошибка, что я не потребовал статью в гранках — я, конечно, не допустил бы ни этих гадких ошибок, ни этого противного тона всей статьи. И тем не менее ты должен настолько знать меня, чтобы сразу понять, что вся мерзость принадлежит интервьюеру, а не мне. Помилуй, да это поняли две газеты, а уж друзья-то должны были сообразить.
Друзья, да. Но не недруги. Тем прямо в руку сыграла эта статья.
Вот мы и дошли до сути.
Я убежден и готов прозакладывать пари, что ты во всей этой истории находишься под некоторыми, враждебными ко мне влияниями.
История с Погожевым могла только внести в наши отношения некоторое, так сказать, смущение, которое скоро изгладилось бы. Неловко нам стало на время.
Алексеев вел себя безупречно порядочно и ничем не мог возбудить против нас.
Кугульский с своим интервью слишком дрянен, чтобы сыграть в нашей близости такую большую роль.
Остаются Гурлянды, Кондратьевы, Бриллиантовы — я не знаю, кто еще, которые не всегда умеют делать дело для дела, а находят, что работать — значит непременно воевать. Вот и пошло! И Новый-то театр я ругаю, и Малый-то хочу забить! Перед самым отъездом из Москвы я еще читал статью, которая говорила, что ни на что наш театр не нужен, так как мы хотим повести его очень дорогим (!!) и хотим «пересилить привлекательность Малого театра». Словом, врут, врут и кусаются раньше, чем мы что-нибудь начали.
Я решил, что только само дело заступится за нас и обнаружит все вранье.
Но пока что… Войди в мое положение. Я должен вести большое дело, заботясь о каждой сотне рублей, о каждом маленьком служащем, я просиживаю по неделям над цифрами, ведь мы создаем всю театральную машину , о какой ты не имеешь {110}понятия, так как можешь входить на сцену и только требовать. Это колоссальный труд, и для него нужны большие силы. И в то время как приходится преодолевать всеми нервами трудности самого дела, — надо еще считаться с инсинуациями, с газетной враньей, а потом придется выслушивать клевету Корша и ему подобных…
И среди всего этого еще видишь, как порется по швам дружба с одним из самых близких сердцу людей!..
Я тебе написал, кажется, все, что мог. И если не впадаю в излишний лиризм, то потому, что не слишком люблю его. Но могу тебя уверить, что как бы то ни было, а слишком тяжело охлаждение нашей дружбы.
Твой Вл. Немирович-Данченко
Письмо написано быстро, просто и откровенно, и посылаю его тебе без всяких проверок.
43. А. П. Чехову[201]
31 мая 1898 г. Усадьба Нескучное
31 мая
Екатеринославской губ. Почт. ст. Больше-Янисоль
Милый Антон Павлович!
Твое письмо получил уже здесь, в степи[202]. Значит, «Чайку» поставлю!! Потому что я к тебе непременно приеду. Я собирался в Москву к 15 июля (репетиции других пьес начнутся без меня), а ввиду твоей милой просьбы приеду раньше. Таким образом, жди меня между 1 и 10 июля. А позже напишу точнее[203]. Таратаек я не боюсь, так что и не думай высылать на станцию лошадей.
В «Чайку» вчитываюсь и все ищу тех мостиков, по которым режиссер должен провести публику, обходя излюбленную ею рутину. Публика еще не умеет (а может быть, и никогда не будет уметь) отдаваться настроению пьесы, — нужно, чтоб оно было очень сильно передано. Постараемся!
Читать дальше
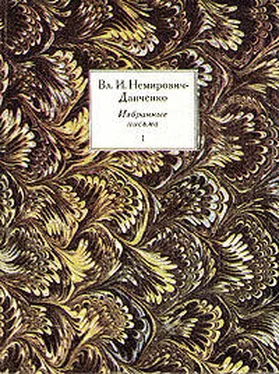










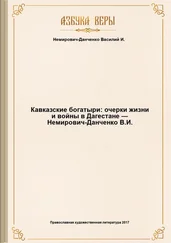
![Василий Немирович-Данченко - Двойная старуха [Фантастика Серебряного века. Том VIII]](/books/423778/vasilij-nemirovich-thumb.webp)