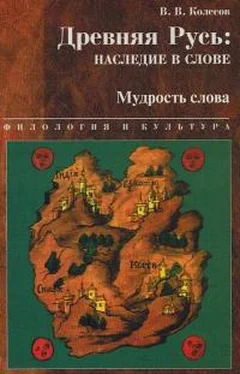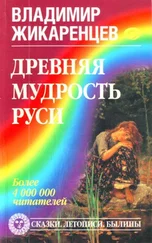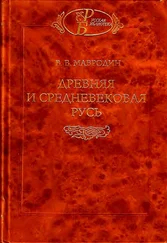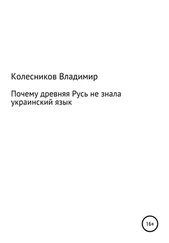Сходство между двумя примерами в том, что они отражают одну и ту же форму движения мысли. Для средневекового человека часть чего-то не может существовать отдельно, сама по себе, вырванная из целого, и потому в его сознании не выделяется особо. Оттого и говорили «капуста листие» (варить), а не «листья капусты» (управление) или «капустные листья» (согласование). Всё совмещено: и капустные листья, и сама капуста, и листья капусты на капустном кочне. Вещь нельзя разобрать на части в помысленном ее варианте. Нераздельность вещи словесно и грамматически не расчленена. Как не расчленены подол берега (горы) и сам берег в целом.
Нельзя.
Так что в этом случае управление и согласование? Здесь слова примыкаютдруг к другу и, зависяодно от другого, согласуютсяв соответствии со своей формой. Не управление и не примыкание, а именно согласование соединяло подлежащее и сказуемое во многих старых конструкциях, когда два имени одинаково представлены то в именительном, то в винительном, то в родительном и т. д., «втором падеже». «Инии несвѣдуще ркуче, яко Кийесть перевозникъбылъ...». Современная мысль разграничивает именительный подлежащего и творительный сказуемого («Кий был перевозчиком»). «Постави им уношю князя» — второй винительный также стал творительным: «Поставил им князем юношу». Согласование подавляет все прочие связи слов. Это логика сходств и подобий.
Не только предметы и действия, но и действующие лица могут толпиться в пространстве одного суждения. «Богу благоволящу весною приеду», — сообщает Тургенев в шутливом послании, используя архаическую конструкцию «дательного самостоятельного», столь частую в древних текстах. И автор, и Бог — в одном ряду как одинаково действующие именно в такой ситуации: « ЕслиБог допустит, весной приеду [я]». Развиваются новые конструкции, с помощью которых стало возможным описывать действие не в соответствии с его реальным (вещным) наполнением, а с точки зрения говорящего. А точка зрения говорящего — это и есть логически выверенная позиция мысли.
Синкретизм синтаксических отношений отражает общий синкретизм нерасчлененной мысли. Язык осторожно и постепенно ищет возможности для выражения логической зависимости одного представления от другого. Долгое время такой возможностью был порядок слов. Сначала ставится самое главное слово сочетания, которое обычно обозначает нечто общее и всегда данноемысли как «вещь»; затем следует второстепенное слово, которое обозначает часть этого общего и потому присоединяется предикативным усилием мысли, становясь в предложении сказуемым. Но всякое «данное» уже известно — оно ведь в прошлом. Начало и прошлое важны как точки отсчета. Они представляют собою как бы большую посылку в умозаключении.
Но само умозаключение не состоит из ряда отдельных предложений. Оно как целое содержится в какой-то своей части — в определенном суждении.
«Куплены нити на шитье на шубы» — куплены нитки для шитья шубы. Действие (шитье) и объект действия (шуба) выступают как равноправные элементы суждения. Перед нами как бы параллельное движение мысли, сложный силлогизм, вбирающий в себя все вокруг и выстраивающий все это в общий ряд равноценных форм: «Того же дни взято у крестьян у запольских за пожню за рель за сено за греблю и за метание и за вожение за 101 год 6 рублей московских». Сено нужно сгрести (гребля), сметать в стога ( метанье ) и вывезти ( воженье ) — действие и его объект совмещены. «За пожню за рель» — за пожню на рели (заливной луг); часть и целое слиты. «За сено за греблю... за 101 год» — действие само по себе, время действия — также, объект действия опять-таки сам по себе. Современное восприятие совсем иное, появилась логическая перспектива высказывания: «...за пожню на рели, а также за греблю, метанье и вывоз сена в течение [7] 101 года» (1593 г.). Но если в высказывании все одинаково важно, и важно настолько, что даже предлог для всех слов избирается общий, — можно ли говорить о невыразительной плоскости высказывания? Напротив, средневековый человек видит мир и четко, и выпукло.
Однако этот графически четкий, черно-белый мир предстает перед ним в каком-то растрепанном виде, внутренние связи между лицами и предметами, между предметами и действиями, между качествами и предметами как-то неопределенны, и всякие связи между ними передаются приблизительно и описательно. Такие связи пока не стали фактом всеобщего знания, потому что не ушли еще в подтекст языка. Они не оформились грамматически. Именно поэтому мы их не «видим», высокомерно полагая, что предок наш такой недотепа.
Читать дальше