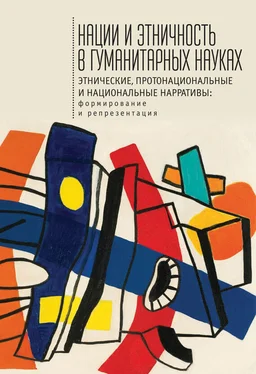Исторический и политический опыт интересующего нас участка европейского пространства включает в себя, в том числе, два проекта с разным объемом влияния на международной арене своего времени и разной «продолжительностью жизни» (возьмем этот оборот в кавычки, дабы не быть заподозренными в следовании органицистской традиции ратцелевского толка). Один из них представлял собой любопытную разновидность аристократической республики Нового времени, другой же стал в конечном счете образцом империи – тем интереснее был скрытый в недрах этой империи потенциал федеративного государства. Речь идет о Речи Посполитой и монархии Габсбургов – Австрийской, позже Австро-Венгерской империи.
Может быть, слишком смело называть систему правления в Речи Посполитой выборной монархией или «неким вариантом представительной демократии» [487], но на фоне укрепляющегося абсолютизма в остальной Европе (по крайней мере, континентальной) это государство выглядело по меньшей мере оригинально (и не всегда в хорошем смысле). По существу, оно пало жертвой того, что мы сегодня назвали бы «неэффективным менеджментом». Действие принципов nihil novi и liberum veto , фактически блокировавших нормальную работу как парламента, так и королевской власти; междоусобицы шляхты; разногласия на социальной и религиозной почве – лишь некоторые причины ослабления и позже гибели этой своеобразной демократии-олигархии-федерации. Чьей же добычей она стала? Здесь мы обращаемся к интересующему нас вопросу имперских проектов в центре европейского материка.
Части бывшего единого государства к 1795 г. достались империям, уже существовавшим на тот момент (Российской, Австрийской), и Пруссии, которой имперское будущее только еще было уготовано через несколько десятилетий после объединения Германии и создания Германской империи. Эти события, на наш взгляд, получают специфическое продолжение сегодня – продолжение, не в последнюю очередь выраженное в символических формах, в коллективном сознании граждан современных независимых европейских государств-членов Евросоюза, новой интегрирующей общности.
Большая часть того пространства, которое мы сегодня можем обозначить как Центральную, или Центрально-Восточную Европу, находилась на территории дунайской монархии, принцип формирования которой был совершенно иным по сравнению с империями колониального типа. По остроумному замечанию исследователей истории монархии Габсбургов Андрея Шарого и Ярослава Шимова, устройство этого сложносочиненного государства «парадоксальным образом основывалось на его противоречиях» [488].
Для обозначения общественно-политической системы такого типа современный историк Андреас Каппелер предложил формулировку «полиэтничная империя», имея в виду также и Советский Союз (имперские черты этого проекта для австрийского исследователя несомненны, и мы склонны с ним согласиться), а также и его предшественницу – Российскую империю [489]. «Хотя русские составляли в конце XIX столетия только 43 % всего ее населения, российская империя до сих пор воспринимается как русское национальное государство», – замечает Каппелер. Здесь мы уже вступаем в заочную полемику с адептами русского консервативного национализма, от его умеренных представителей до более радикальных последователей идей черносотенного толка, ностальгирующими по квазиестественной иерархии, в которой все народы империи равны, но один из них равнее прочих. Но эта дискуссия уже явно выходит за рамки нашей темы.
Как мыслился центр этой империи и что собою представляли ее периферийные области? «Азия начинается за Ландштрассе», – эта фраза, приписываемая проницательному канцлеру Меттерниху, в высшей степени характеризует сложное отношение дунайской империи к собственной географии, отношение, выстроенное во многом не на точных фактах, а на «чувстве пространства», Raumsinn (этот термин, заимствованный из арсенала Фридриха Ратцеля, кажется вполне уместным). То, что Ларри Вулф в своей книге «Изобретая Восточную Европу» назвал «философской географией», для конструирования политических смыслов оказывалось существенно полезнее географии как таковой [490]. Так, Прага географически западнее Вены, но и она, очевидно, находилась в «Азии за Ландштрассе». В то время как Вена и ее окрестности несомненно вписывались в пределы европейского «запада», окраины империи – Галиция, Буковина, Босния – не только географически, но и символически являли собой не до конца исследованный, дикий и отчасти опасный «восток». Но это, так или иначе, был «свой», внутренний Восток. Был и внешний и тоже имперский – Российская империя.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу