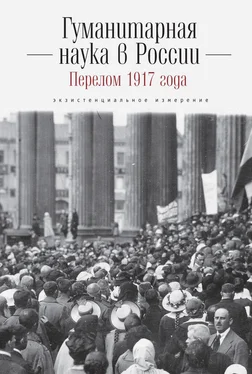См.: [24,6].
В своем фундаментальном исследовании «Russia Abroad» Марк Раев показал, что большую часть эмигрантов составили представители не элит (как иногда думают), а рабочего класса.
История злоключений и несчастий, пережитых Мережковским и Гиппиус во время их бегства из большевистской России в Польшу, описана в [9, 251–272].
Обсуждение процесса их высылки см. в: [30, 189–208]; на с. 201 приводится список из тринадцати философов.
См.: [3,223–224]; [18,236–238].
В 1923 году Булгаковы все еще питали надежду воссоединиться со своим сыном в Праге. См.: Булгаков, письмо Бердяеву 25 января 1923 г., [4, 180]. Федор смог приехать в Париж лишь после Второй мировой войны, чтобы посетить могилы своих родителей.
Флоровский, письмо Н. Струве 16 января 1979 г., [15, 94].
По-видимому, советское правительство планировало выслать и Василия, но этот план не был осуществлен. См.: [8, 93].
См.: [21].
Детальное описание личного участия Ленина в планах высылки приводится в: [36]; [10]; [38, 151–227].
См.: [50].
Ср.: [7, 429^430]; архимандрит Иоанн Леончуков, речь по случаю освящения церкви Святого Сергия «Десятилетие Сергиевского Подворья», в: [22, 25].
В 1920-е – 1930-е годы в Праге было открыто пять русских учебных заведений, в Харбине шесть, а в Париже восемь. См.: [33, 55].
Антоний Флоровский в [39, 216] сообщает, что только по русской истории ученые-эмигранты написали более 500 статей и книг, вопреки финансовым ограничениям и недоступности архивных материалов в России. О жизненно значимом иностранном финансировании Свято-Сергиевского института см. также: [46, 71–89]; [47,73–94].
Описание участия русских эмигрантов во французской культурной жизни см. в: [44]; [45, 3—46]. Анализ смены поколений русской эмиграции и ее ассимиляции см. в: [43, 58–99].
Марк Вишняк, интервью 30 июня 1968 г., цитируется в: [49,216].
С. Булгаков, письмо Бердяеву 12 мая 1923 г., [4,182].
Анализ этого общего опыта см. в: [1, 57].
Иногда встречается неточное утверждение, что термин «воцерковление» был изобретен в русской эмиграции. Однако еще Николай Гоголь (1809 – 1852) ввел в литературное употребление девятнадцатого века старославянский термин «оцерковление», обозначая этим словом возврат России к истокам православной веры. См.: [13, 44]. В эмигрантской литературе оба термина часто употреблялись почти синонимически.
В 1925 году в составе «Живой Церкви» насчитывалось около тридцати епископов, не считая более двадцати епископов, к тому времени уже умерших. Список епископов см. в: [28, 328–330].
Позднее руководство РПЦЗ переехало из Сремски-Карловци в Мюнхен, а затем в Нью-Йорк. В 2007 году было официально восстановлено каноническое общение между РПЦЗ и Московским Патриархатом.
Флоровский, письмо П. П. Сувчинскому 3 декабря 1923 г., [23, 164]; [4, 93]. На одном из собраний Братства Святой Софии Флоровский сделал следующее заявление: «Я лично очень хотел бы элиминировать из церковной жизни политические элементы, но я откровенно сознаю, что это очень трудно». См.: «О положении Церкви в России», протокол встречи Братства в Праге 21 мая 1925, [4, 81–82]. О критике Флоровским политической позиции РПЦЗ см.: [4, 96].
См.: [35, 79]. РПЦЗ наградила Флоровского золотым крестом за его служение в годы Второй мировой войны. См.: [19, 217, прим. 14]. Архиепископ Этнийский Хризостом, лидер отколовшейся группы православных традиционалистов, известной как «Старокалендарная Православная Церковь Греции: Священный Синод противостоящих», утверждает, что Флоровский, будучи в Югославии, служил как священник РПЦЗ. См.: [37,28–29].
Принадлежность Флоровского Константинопольскому Патриархату подтверждает письмо архиепископа Греческой Православной Церкви Северной и Южной Америки Михаила от 2 июня 1958 г., GFP PUT, Box 23, f. 1.
Православная Церковь оставалась катализатором групповой идентичности также и для последующих волн русской эмиграции. См.: [33, 185].
Приведу лишь несколько наиболее характерных высказываний Д.И. Чижевского по теме интердисциплинарности из его писем к В.И. Вернадскому: «Думаю, что Вам были бы интересны работы фонологов (по существу – русское течение в европейской лингвистике, – представленное Трубецким и Якобсоном)» (письмо от 7 июля 1932 г.). – Цит. по: [1, 425]. «Последнее время я внимательно следил за выходящей в России литературой по истории литературы – много интересного, но не марксистского. За границей русская наука приобрела сейчас огромное влияние в лингвистике – благодаря Трубецкому (венскому – Николаю Сергеевичу), исходящему отчасти из Фортунатова, отчасти из Бодуэна-де-Куртенэ, а отчасти – по-моему – из традиций русского гегельянства. Думаю, что это влияние еще усилится с течением времени. Для русской науки вообще сейчас крайне благоприятная конъюнктура и просто трагично, что многое сквозь многоразличную цензуру вовсе не доходит до Европы, да не появляется в печати и в самой России» (письмо от 10 августа 1932 г.) [1, 427]. «Ваши философские соображения меня очень интересуют. Сам я, к сожалению, не имею почти возможности заниматься проблемами философии наук. Пока. Надеюсь к этим темам еще вернуться. В частности, исходя из вопросов языковедения, – не знаю, знаете ли Вы работы Ник. Серг. Трубецкого. У меня, к сожалению, нет их лишних оттисков, но думаю, у него еще есть и он Вам их охотно вышлет: несколько его работ – как раз основоположных – вполне доступны и неспециалисту» (письмо от 10 ноября 1936 г.) [1, 431].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу