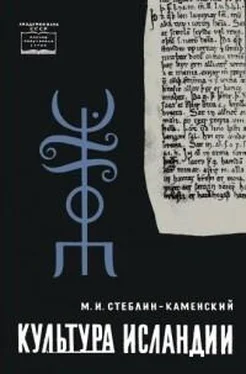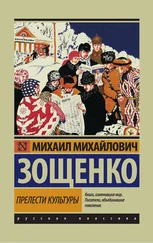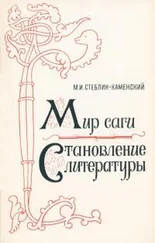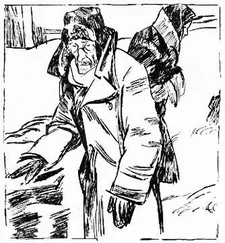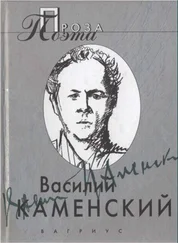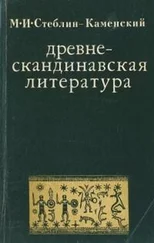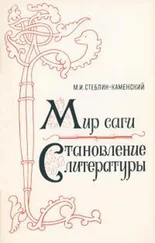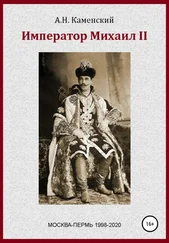В истории народов бывают эпохи наиболее интенсивного и самобытного творчества — эпохи расцвета культуры. Они накладывают отпечаток на всю позднейшую историю культуры данного народа, а также тех народов, которые оказались в сфере его культурного влияния. Так, например, эпоха расцвета греческой культуры наложила отпечаток на позднейшую историю культуры не только Греции, но и всей Европы. Степень расцвета культуры не стоит в прямом соответствии с общим развитием общества, а также с развитием его материальной основы, его цивилизованностью: произведение, написанное гусиным пером при тусклом светильнике, может быть плодом более интенсивного и самобытного творчества, чем написанное авторучкой при электрической лампе. Все же обычно расцвет культуры народа происходит в эпоху, когда есть хоть гусиные перья, есть письменность и уже сложилось государство, в рамках которого формируется культура народа. Не так было в Исландии. Эпоха наибольшего расцвета культуры в Исландии — это самое начало истории исландского народа, эпоха дописьменная и догосударственная.
Историки еще долго будут спорить о том, что представляло собой исландское «народовластие», т. е. то общество, которое просуществовало в Исландии с эпохи ее заселения и до середины XIII в. Но несомненно, что такого общества не было в других странах, история которых известна. Своеобразие исландского «народовластия» заключалось, по-видимому, в парадоксальном сочетании того, что обычно не встречается на одной ступени развития.
В древнеисландском обществе, в частности в так называемый век саг, или в первый век существования «народовластия» (примерно 930–1030 гг.), господствовал героический и воинственный дух, унаследованный исландцами от эпохи викингов [7]. Он ярко выражается в бытовавших в то время в Исландии героических сказаниях и в поэзии, сохранившейся от того времени. Но практически этот воинственный дух находил выход только в кровной мести — обычае, унаследованном исландцами от родового общества и занимавшем большое место в их жизни. В викингские походы ходили только некоторые исландцы, а в XI в. эти походы вообще прекратились и вскоре стали легендой. Никакого войска в Исландии не было. Никаких войн исландцы не вели. Век саг был, как устанавливают историки, веком мирного и всестороннего хозяйственного прогресса. Пастбища в стране еще не были истощены, и овцеводство — уже тогда основа хозяйственной жизни страны — процветало. К тому же у исландцев еще было достаточно кораблей для подвоза из Норвегии всего, чего им не хватало, — хлеба, леса и т. д. Впрочем, плавникового леса было тогда много и в Исландии, и постройки из него были гораздо роскошней, чем исландские постройки последующей эпохи. По подсчетам историков, в течение века саг население Исландии удвоилось. Исландцы жили мирной трудовой жизнью и несомненно ценили мир, как об этом лучше всего свидетельствует знаменитая речь годи Торгейра, в которой он, несмотря на то что сам был язычником, настоял на компромиссе между язычниками и христианами в целях сохранения мира внутри страны. Воинственный дух эпохи викингов странно сочетался в Исландии с жизнью мирных овцеводов.
В исландском «народовластии» продолжали жить институты родового общества. Поселенцы, приехавшие на одном корабле, объединялись в «хрепп» — что-то вроде сельской общины. Свободные общинники — «бонды» — составляли основную массу населения. Все члены общества обладали одинаковыми правами и одинаково участвовали в решении общих дел на своих вечах — «тингах», которые происходили весной и осенью. Выделявшаяся из среды бондов родовая знать — «хёвдинги» — еще не противостояла бондам как правящий класс. Всякий хёвдинг был в то же время бондом, и рядовые бонды не зависели экономически» от хёвдингов. Из хёвдингов выбирался жрец — «годи», власть которого была основана на доверии к нему и его авторитете. Как в родовом обществе, человек пользовался почетом и авторитетом в соответствии со своими действительными достоинствами, а не в силу своего чина или должности. Годи не имел в своем распоряжении никаких средств принуждения. Если он не оправдывал доверия бондов, его смещали. В то же время община годи — «годорд» — не была связана с определенной территорией, так что каждый бонд мог сам выбрать, к общине какого годи он принадлежит. Годи содержал капище на средства, собранные у членов годорда, поддерживал мир в своем годорде, предводительствовал на жертвенных пирах и на тинге, надевая на руку священное кольцо, которое обычно лежало на алтаре в капище.
Читать дальше