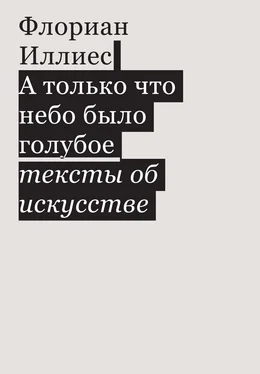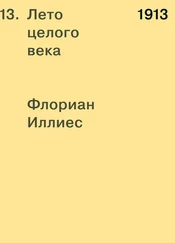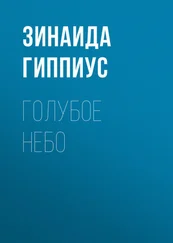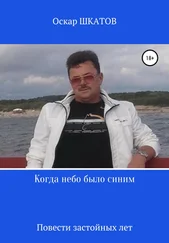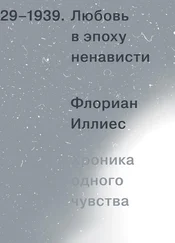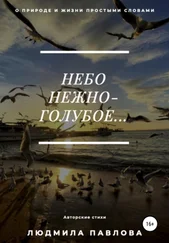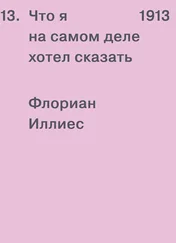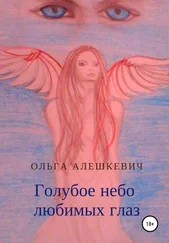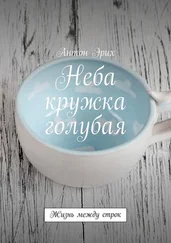Этюды маслом всего около тридцати лет назад стали отдельной сферой коллекционирования. Художники писали их для собственных нужд, но еще при их жизни этюды зачастую становились объектом обмена между художниками. Коллеги знали, что нигде душа другого человека не проявляется так ясно, как в его спонтанном взгляде на свет, воздух и облака. После смерти художника этюды шли с молотка десятками или сотнями – и лишь немногие знатоки в свое время поняли их значимость. Сегодня же цены на спонтанные эскизы, как правило, намного выше, чем на законченные в мастерских картины тех же самых художников. Такое впечатление, что эти картины сохраняют свежесть на протяжении столетий именно благодаря своему прямому контакту с действительностью. Это произведения искусства, у которых в уголке не проставлен срок хранения. Дух набросков, фрагментарность особенно близки нам, современным людям, воспринимающим действительность только в виде клипов на YouTube, рекламных трейлеров и случайных фотоснимков. Этюды маслом – это short cuts живописи.
Удачные этюды с облаками имеют на художественном рынке совершенно особенный, легендарный статус – они почти никогда не попадают на рынок, в качестве товара они так же мимолетны, как и их объекты. Они трудноуловимы, они будто исчезают, как только попадают в поле зрения. Разумеется, облачные этюды всегда были деликатесом для меланхоликов. И остаются таковыми по сей день. Кьеркегор пишет: «Нет лучшей аллегории облаков, чем мысли, и нет лучшей аллегории мыслей, чем облака, ведь облака – это фантазмы, а мысли – разве они не то же самое? Смотри, от всего остального устаешь, а от облаков нет».
Когда становится тошно (а это случается и в самых благородных семействах) от банальностей современного искусства, которое сегодня кажется деградировавшим до товара, от абсолютной необозримости истории искусства и произвольности оценок, то лекарством может стать один-единственный взгляд на небо – или на небольшой картонный лист с белым облачком на голубом фоне. Уж поверьте мне: от всего иногда устаешь, и только от облачных этюдов нет. О них я помню и буду помнить всегда [76] «Die weiß ich noch und werd ich immer wissen» – цитата из стихотворения Брехта «Воспоминания о Мари А.», упоминавшегося выше.
.
Далекая близость. Искусство XIX века
Подзаголовок моего доклада [77] Доклад был прочитан в Берлинском университете искусств 6 ноября 2014 года.
весьма и весьма дерзок. Я собираюсь познакомить вас с «искусством XIX века» – целое столетие за час? Каким же образом?
Никому не пришло бы в голову давать докладу подзаголовок «искусство XX века»: кто бы взялся рассказывать сразу и о «Синем всаднике», и о конструктивизме, об Энди Уорхоле, об Эрнсте Людвиге Кирхнере, о Шарлотте Позенески, о Лучо Фонтана, об Эмиле Нольде, о Пабло Пикассо, о Франце Эрхарде Вальтере, о Дэмиене Хёрсте и об Анри Матиссе? Наверное, кроме Базона Брока [78] Базон Брок (Юрген Брок; р. 1936) – немецкий теоретик искусства, критик, художник.
и Петера Слотердайка на такое никто не отважится.
Тогда почему сегодня вдруг целый XIX век за один час? Потому что он мельче, малозначительней, не такой многослойный?
Нет.
Он был, и это мой первый тезис, как минимум таким же богатым, как ХХ век, и как минимум таким же значительным. Но есть нюанс: мы забыли о нем. Это судьба, характерная для XIX века. Он еще не успел закончиться, а его искусство было уже так прочно забыто, что легендарной берлинской «Выставке столетия» 1906 года пришлось с трудом вытаскивать на свет божий такие имена, как Каспар Давид Фридрих.
Но второе забвение было гораздо более глубоким, оно длилось до недавних пор. И вот, наконец-то, ветер переменился.
Вопрос о том, почему в Германии искусство XIX века так долго пребывало в забвении, так же интересен, как и вопрос о том, почему теперь к нему испытывают такой невиданный интерес. Разумеется, ответы на оба вопроса тесно связаны друг с другом.
Искусство XIX века было подобно большому залу в огромном замке, в который десятки лет никто не заходил. За прошедшие десятилетия все уже забыли, почему нельзя открывать дверь этого зала. Только долгожители с горящими глазами рассказывали о сокровищах, хранящихся за ней. Но придворное общество начинало шептаться и шипеть, если заходила речь о том, что там скрыто. Однако в какой-то момент, в нашем случае это начало XXI века, пришло новое поколение и стало задавать вопросы: а почему, собственно говоря, дверь в этот зал всегда заперта? Когда ее закрыли и почему? И что же там все-таки спрятано? Самые любопытные осмеливались заглянуть в замочную скважину, они видели там множество золоченых рам, а в них картины, которые выглядели вовсе не опасными, а напротив – красивыми, привлекательными, загадочными. Так началось повторное открытие XIX века: как результат любопытных и непредвзятых взглядов. Мы посмотрели на сияющее небо, и редкие серые облака улетучились – панорама стала ясной.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу