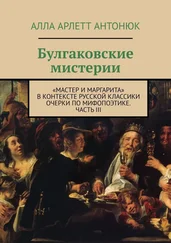Даже в рецензии на эмигрантский сборник, содержащий исследования и публикации новых материалов, Алданов отметит находки, «так как русским исследователям удалось найти много ценного вдали от музеев и архивов (неизвестный автограф Пушкина, сборник английских брошюр, принадлежащий Тургеневу)», а особенно опубликованный во втором номере «Временника» текста «письма Чаадаева к кн. И.С. Гагарину» [13] М.А. [Рец. на кн.: Временник Общества друзей русской книги / Ред. Г.Д. Лозинский, Я.Б. Полонский. Париж, 1932. Кн. 3] // Современные записки. 1932. Кн. 50. С. 466-467.
. Впрочем, тема «Алданов и Чаадаев» нуждается в отдельном рассмотрении.
Если же путь Чацкого, обладателя «мильона терзаний», воплотившего черты Чаадаева, - это путь к декабризму, то таким же мог быть исход его автора. А еще одно обстоятельство жизни Грибоедова, которое обыгрывается в этой повести, - принадлежность масонству. Опять-таки обратим внимание, что темы масонства и декабристов, по известным причинам, у Алданова всегда находились на особом счету.
Еще одна реплика - оценка Грибоедова. Слова, произнесенные Алдановым в очерке о М.А. Осоргине (1952) [14] Алданов М.А. Предисловие к книге М.А. Осоргина «Письма о незначительном» // Алданов М.А. Соч.: В 6 кн. М.: Новости, 1996. Кн. 6. С. 537.
, которые почти полностью будут повторены в книге философских диалогов «Ульмская ночь» (1953; часть пятая, «Диалог о русских идеях»). Алданов указывает на целый ряд российских художественных деятелей, которые «и в политике, и в своем понимании мира были умеренные люди, без малейших признаков максимализма». Среди них, «консерваторов, либо либералов, без малейших признаков бескрайности», между Тютчевым и Гоголем, назван Грибоедов [15] Алданов М.А. Ульмская ночь // Алданов М.А. Соч.: В 6 кн. М., 1996. Кн. 6. С. 348.
.
В очерке «Ольга Жеребцова» (1926) Алданов пишет об относительности оценок, выносимых персонажам истории. В литературных текстах эта относительность поразительна: «Очень вдобавок расходятся разные оценки людей того времени. Пример поистине поразительный: Марья Дмитриевна Ахросимова “Войны и мира” и Хлестова “Горя от ума” писаны якобы “портретно” с одной и той же дамы. Толстой хотел найти красоту и поэзию, - нашел. Грибоедов хотел найти пошлость и безобразие, - тоже нашел» [16] Алданов М.А. Ольга Жеребцова // Алданов М.А. Соч.: В 6 кн. М., 1994. Кн. 1. С. 211.
. Таким образом, создатель «Горя от ума» оказался включенным в цепь алдановских рассуждений о превратностях судеб в восприятии потомков.
Другие тексты Алданова утроены так, что в них либо упоминаются имена персонажей пьесы «Горе от ума», которые приводятся в целях аргументации мыслей, либо алдановские герои вмещают в себя какие-то идеи, оказываются в ситуациях, близким действующим лицам грибоедовской пьесы.
Следующее произведение, в котором замечен грибоедовский след, - это первая часть трилогии «Ключ» - «Бегство» - «Пещера». В романе «Ключ» (1928-1929) есть аллюзия на знаменитую пьесу Грибоедова. Следователь Николай Петрович Яценко, пытаясь вспомнить отчество своего знакомого Фомина, ошибается в отчестве:
- Картины покупаете, Платон Иванович?
- Платон Михайлович...
- Простите, Платон Михайлович. Это ведь в «Горе от ума» Платон Михайлович?.. [17] Алданов М.А. Ключ // Алданов М.А. Собр. соч.: В 6 т. М., 1991. Т. 3. С. 49.
.
Очевидно, что такая литературная ассоциация у следователя могла появиться при том условии, что он либо хорошо усвоил русскую классику еще в гимназические годы, либо обращался к ней в зрелом возрасте, любя и запоминая даже подробности изображенных сцен. Такой ситуативной деталью Алданов создает образ положительного героя, образ просвещенного сыщика.
Отсылки к Грибоедову осуществляются и во второй части этой же трилогии Алданова, в романе «Бегство» (1930-1931). Среди многочисленных диалогов двух «лишних» людей, людей, выброшенных историей из России, Брауна и Федосьева, есть эпизод, в котором персонажи предвидят процессы развития русского общества. Мрачный Федосьев, в прошлом глава политического сыска, спрашивает не менее мрачного ученого - в прошлом нелегального революционера Брауна: «У нас в России были Гамлеты, Чайльд-Гарольды, дон-Кихотами хоть пруд пруди. Только Фаустов не было. Итак, ваш скорбный листок?..» Браун по привычке парирует: «Нет болезни, нет и скорбного листка». Федосьев не унимается: «Болезнь есть: чрезмерная независимость». Браун отвечает: «Золотая середина между Юлием Цезарем и Молчалиным» [18] Алданов М.А. Бегство // Алданов М.А. Собр. соч.: В 6 т. М., 1991. Т. 3. С. 394.
. В таком контексте действующее лицо грибоедовской пьесы наделяется чертами символа, противостоящего символу властолюбия, тщеславия и агрессии. Вероятно, образ Молчалина наделяется весьма высоким значением - становясь по контрасту символом покорности и терпения. А золотая середина - это направление жизни русского человека между двумя крайностями. Но подобная антитеза, сопоставление крайностей, вряд ли избежала иронии автора. Образ Молчалина превращается в настоящий мотив алдановского романа. Так, несколькими страницами ниже цитируются известные слова Грибоедова, а именно: ироничная реплика Чацкого:
Читать дальше