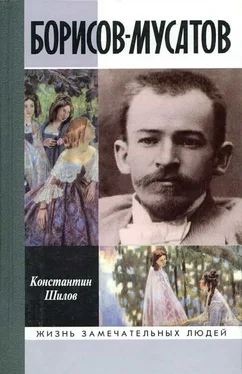А человеку — месяц, и полгода, и год… И мир, заносимый в стены старого дома с шелестом свежих газетных листов, с волнующими отца новостями: о разгроме французов пруссаками и сдаче Наполеона III в плен при Седане, о «каналье Бисмарке», к возмущению завсегдатаев саратовского Коммерческого клуба, ведущем дело к возрождению Германской империи, об утверждении решений конгресса Соединенных Американских Штатов генералом Грантом, о новых подробностях злодеяний нигилистов и главного из них — убивца Нечаева… — все где-то там, за блаженно-зыблющимся сиянием полунебытия… Но в проступающих цветных пятнах, в сливающихся шорохах — завеса уже его времени колеблется над кроваткой спящего мальчугана.
Отплытие

1
Встает стеной до звона ясная синева: небо ли, Волга ли сливаются в едино море? А на этой синеве, как ни прижмуривайся, белеет узорное облачко… Оно движется, растет, опадает, вновь растет и вот уже колышется целой грядой облаков. В прозрачной белизне туда-сюда ходит прямой длинный луч, мелькая холодным металлическим блеском. Мальчик видит это кружево, и что-то родное обволакивает его сон. Это тепло тихо напевающего голоса и рук матери, таких быстрых и ловких. Это ее кружева — самые первые облака в синем поле его судьбы. И это первая его сказка, где тянутся стебельками, обхватывают друг друга диковинные растения, распускаются белые цветы… И сквозь дрему просит-надеется извечная, незатейливая песенка все про того же невезучего котика-кота, на которого приходит слепота — «а на Витеньку мово придет сон-дремота… Угомон тебя возьми… Вырастешь большой, будешь в золоте ходить…». Но угомон уже не берет: властно стоит за прикрытыми веками, насыщаясь слепящим светом, отвесная стена синевы…
С распахнутой веранды входит запах свежестиранного белья. Волнующе-здоровая крепость влажного полотна. Тянущийся ветерок, суровый холщовый трепет…
И он смело и широко раскрывает глаза. Синяя стена отступает, словно растворяется в четырехстенном и многомерном мире, — превращается в «белый свет». В окнах — чистые гладкие стекла с тонким радужным наплывом. В каждом стекле набирает силу оранжевое солнце. По карнизу старого белокаменного дома через дорогу разгуливают голуби. А там, за порогом, куда он сейчас выбежит, — расходится по улице и легко тает белесый туман…
У беды свой закон, свой постылый вкус, и ничем нельзя его избыть или подсластить. У беды свой «дурной сон», и вдруг, в один миг становится им вся твоя явь… И не хотел верить Эльпидифор, затаиваясь в себе, горбясь над столом и прикрывая глаза ладонью: неужели — достало, не обошло-таки и его лихо? Да ведь какое… Заболел трехлетний Виктор — и не в один день, а как-то постепенно теряя на глазах родителей былую резвость… Без всяких видимых причин сделался он тосклив и вял, от любых движений быстро утомлялся, а устав — дышал пугающе-странно, с одышкой… Недоумевая, в слезах смотрела на своего любимца Дуняша. Но скоро все прояснилось — и самым печальным образом: на спинке ребенка стал образовываться горб — следствие сильного ушиба позвоночника. С опозданием стали приходить на ум все случаи плохо кончавшихся проказ неугомонного мальчишки. Было дело: долго жаловался он на боль в спине, оцарапанной во время падения о край садовой скамейки. И еще припомнилось: расшибся однажды зимой, упав со снежной горки… Врачи качали головами, присоветовав ношение корсета, но положение стремительно ухудшалось, корсеты не помогали, и по истечении года отправлявшийся по делам службы в Петербург, в правление железной дороги, Эльпидифор Борисович взял с собой жену и сына.
Мальчика поместили в Екатерининскую детскую больницу. Родители вернулись в Саратов, но вскоре пришла из Петербурга телеграмма с просьбой забрать ребенка. В мрачном предчувствии собрался Эльпидифор в новый путь, перекрестясь и приготовясь к новому удару… Так и оказалось: в одну из прогулок по больничному саду, ускользнув от других детей и от надзиравшего за ними дядьки, взобрался их шалун на какую-то лестницу так высоко, что голова закружилась, и упал с нее в выгребную яму, проколов как раз больное место спины острой торчащей костью. Потерявший сознание от ушиба и боли, найден он был не сразу. Видимо, усомнились врачи в своем успехе после такого несчастного падения, еще более подстегнувшего развитие воспалительного процесса. И деловитое их отчаяние, а заодно какие-то намеки, сделанные ими Эльпидифору на собственную его болезненность, на некую дурную предрасположенность, переданную им сыну и проступившую поистине по воле «злого рока», — все окончательно смутило несчастного отца. Тогда-то и сник, притих, как-то отяжелел сразу Эльпидифор Борисович, начал быстро лысеть со лба, обрамленного теперь узкой кромкой светлых, коротко остриженных волос. Еще меланхолично-печальнее стало выражение его исподлобья глядящих глаз — словно сжился он с бедой, трезвый ум твердил одно: лиха, да твоя и — навечно. Но сдаваться не мог — не позволяла Дуняша. Вдруг проявилась в ней как бы наперекор несчастью такая сила характера, что муж диву давался…
Читать дальше