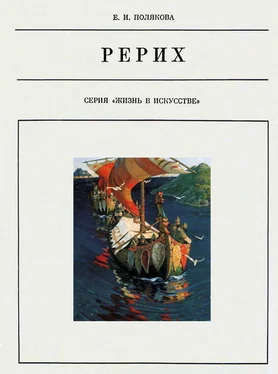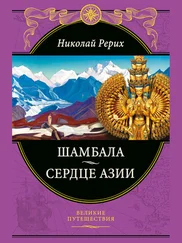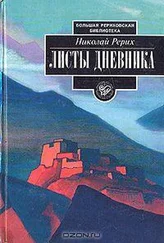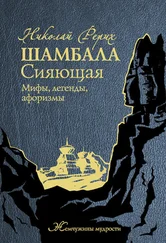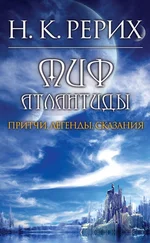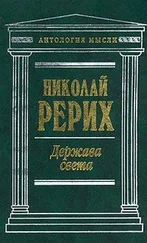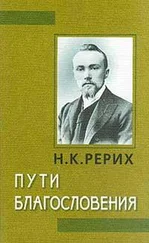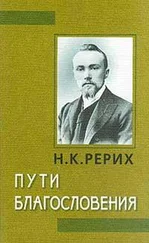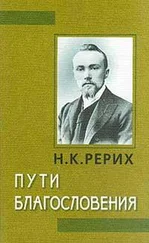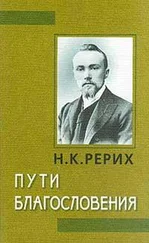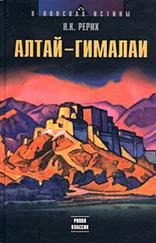Художник умеет разместить несколько фигур так, что они создают впечатление множества. Но это множество не превращается в фон; каждый в массе — личность, к которой художник относится с толстовским благоговением; и казаки, окружившие Ермака, и помертвевшие от страха остяки, и случайный мальчишка, бегущий за дровнями, и воющая стрельчиха — все важны, все значительны художнику, а за ним и зрителю.
Рядом с Суриковым на выставках восьмидесятых-девяностых годов постоянны картины на сюжеты русской истории. Неврев и Клавдий Лебедев, Константин Маковский и Мясоедов, Якоби и Литовченко тщательно изображают новгородское вече, боярскую думу, пиры с «поцелуйным обрядом», забавы боярышен с подружками в теремах. Художники тщательно выписывают шелка и парчу нарядов, драгоценные камни, серебряные кубки. Художники консультируются с историками, посещают хранилища Исторического музея. Но картины их обычно не поднимаются над уровнем иллюстраций к учебникам или многотомным «Историям России».
Толпа стоит в 1885 году у картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Нервных женщин приходится под руки выводить из зала: пугают и притягивают безумные глаза царя, алая кровь, текущая по рукам сыноубийцы. Суриков тоже мог изобразить арест Меншикова или ужасающую голодную смерть Морозовой — он выбрал иные моменты жизни, внешне менее драматичные, но позволяющие глубже раскрыть характер и судьбу человека, а через этот характер и судьбу выразить историю России.
Великий исторический живописец. Таким воспринимает его и молодой Рерих.
Но сильнее всего действует на него в студенческие годы, подчиняет себе Виктор Васнецов.
Сюжеты Сурикова относятся к сравнительно недалеким временам, к шестнадцатому-семнадцатому векам, Васнецова привлекает не просто старая Русь, но Древняя Русь, времена, когда былинные богатыри стояли заставой у пределов Киевской Руси, когда в воздухе свистели не пули, но оперенные стрелы и див кликал вверху древа землям незнаемым.
Рерих писал, что ему близка «проникновенность Васнецова в серую красоту русской природы». Еще ближе — «потребность обернуться к чисто русской красоте, к старине и ее народным истокам, поворот от жанра к сказке».
Васнецов воскрешает не столько быт Древней Руси, сколько ее предания, сливающиеся со сказкой: так же естественно, как Илья Муромец, как Иван Грозный, появляются в его живописи Снегурочка или Иван Царевич, мчащийся на волке по лесной, прямо изварской дороге. В этих живописных былинах и сказках художник всегда обстоятельно точен: тщательно выписывает реальную, словно сработанную на фабрике Алексеевых парчу, в которую одеты царевны подземного царства, узоры богатырских колчанов и шерсть волка.
Начинающий исторический живописец Рерих так же тщательно выписывает кольчуги, пушистые рысьи и гладкие волчьи меха — шкуры развешаны в его изварской мастерской, под которую приспособили сенной сарай: в углу стоит доподлинный тяжелый меч, кованный изварским кузнецом. В этой мастерской или в петербургской квартире художник может набросать эскизы для вечера в память Тараса Шевченко, придумать оформление для «живых картин» грузинского студенческого землячества. Но основное, что его волнует и привлекает, с чем он постоянно соприкасается в археологических работах, — это история России. Ей в первую очередь посвящены самостоятельные работы художника. «Первый номер первого разряда», то есть высшую оценку, получает студент за эскиз «Плач Ярославны», задуманный в 1893 году. Студент пишет «Курганы», «Вече», «Пушкарей», «Ушкуйника» (вспомним, что так называлось детское стихотворение Рериха).
«Пскович» настолько жизнеподобен, что Елена Павловна Антокольская, увидев фотографию данной работы, решила, что это попросту фото костюмированного натурщика.
Сюжеты Рерих находит легко: они рождаются не столько непосредственными зрительно-живописными впечатлениями, сколько ассоциациями литературными и музыкальными. Под влиянием симфонической картины Римского-Корсакова хочется писать «Садко у морского царя».
Еще сюжет: «Невеста французского короля. Осмотр невесты послами». Это — Киев времен Ярослава Мудрого, Анна Ярославна, ставшая королевой французской. Еще «новый сюжет», подробно записанный: «Молодой воевода стоит задумавшись, опершись на зубец стены на фоне неба. Глядит вдаль. Фас. Тяжело его молодой голове под гнетом воеводства. Город может быть обложен врагами, или просто он прибыл на место назначения и думает, что ему предстоит».
Читать дальше