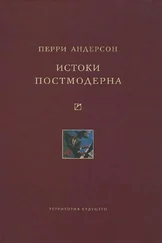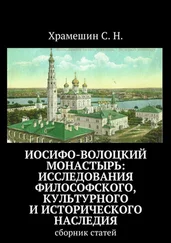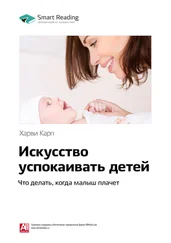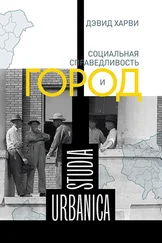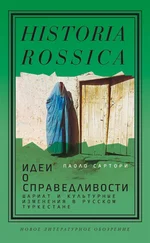В целом восхищаясь теоретической работой Харви, Грегори находит в ней и «ахиллесову пяту». То, что Харви был привержен именно Марксу и не обращал внимания на актуальные дебаты о марксизме (на самом деле это не так, но об этом ниже), якобы создавало риск того, что «проблемы, которые, в частности, привели к возникновению западного марксизма, будут проигнорированы». Кроме того, подозрительность Харви по отношению к интеллектуальным традициям, выходящим за рамки исторического материализма, постоянно усиливалась и усиливается до сих пор [Gregory, 2006, р. 20]. В итоге сочинения Харви теряют гибкость, если использовать термин, который сам он придумал для режима нового накопления капитала. Наверное, сразу стоит сказать, что это не совсем так. Харви определенно внес существенный вклад в современный марксизм и совершенно точно вышел за пределы исторического материализма. На это, собственно, указывает марксист Алекс Каллиникос. Еще в 1985 году Харви лично отметил, что интегрирует пространственное измерение в классическую политическую экономию марксизма и поэтому: «Исторический материализм должен быть обновлен… историко-географическим материализмом» [Callinicos, 2006, р. 49; Harvey, 1985 а , p. xiv].
Медиатеоретик Роберт Хассан, при том что он считает «Состояние постмодерна» важнейшей и очень актуальной книгой, приходит к схожему выводу, называя марксизм Харви «откровенно доктринерским» [Hassan, 2020, р. 6]. Не желая пренебрегать всеобщим законом капиталистического накопления, Харви якобы впал в противоречия, отказываясь признавать гибкое накопление мутацией капитализма. Хассан формулирует это очень красиво: «Все изменилось, но ничего не поменялось». Иными словами, постмодерн для Харви был лишь поверхностным явлением, отражающим логику остающегося неизменным капитализма. Сказать, что фундаментальные перемены произошли в самом капитализме, означало бы признать, что марксизм Харви – постмодернистский. Хассан упрекает Харви в том, что тот не ссылается на уже громко прозвучавшую книгу «постмарксистов» Эрнесто Лакло и Шанталь Муфф «Гегемония и социалистическая стратегия» [Laclau, Mouffe, 2000], которые смогли отказаться от якобы неадекватной классической теории и приняли постмарксизм, покончив с «тотализирующими» аспектами послевоенного марксизма. В терминах Хассана это и есть «марксистский постмодернизм» [Hassan, 2020, р. 7].
Хассан – в самом деле блестящий социальный теоретик, но знание западного марксизма – не его сильная сторона. Иными словами, политическая теория Лакло и Муфф – очень плохой пример, чтобы сравнивать ее с концепцией Харви. Постмарксизм Лакло и Муфф состоял в том, что идеологически они осуждали Второй и Третий Интернационалы (а это означало отказ от классового эссенциализма), интеллектуально – распространяли постструктурализм на марксистскую традицию, теоретически – отдавали предпочтение Грамши и Фуко, а не Марксу (Хассан «журит» Харви за то, что тот не уделяет внимание Грамши и пренебрежительно относится к Фуко, – к слову, общий пункт скепсиса по отношению к методологии Харви; при этом сам Харви в своей книге критикует марксистов, которые больше цитируют Фуко и Деррида, чем Маркса), политически – симпатизировали еврокоммунизму и ставили целью не социализм, а «радикальную демократию» [Андерсон, 2018, с. 143]. Зачем «традиционному» марксисту все это было читать? Каким бы доктринальным и негибким марксизм Харви ни был, он остается образцом верности марксистской политической экономии и ее политическим следствиям. Впрочем, в конце концов, Хассан отдает должное Харви, отмечая, что еще в 1989 году «рабочие классы в англосфере, то есть на переднем крае неолиберализации, все еще были удивительно организованы, если смотреть с сегодняшней точки зрения» [Hassan, 2020, р. 177]. Наверное, здесь уместно упомянуть, что существуют попытки вписать Харви в традицию «критической теории» неомарксизма, и в итоге его идеи «уживаются» вместе с концепциями Лакло и Муфф, Славоя Жижека, Акселя Хоннета и т. д. [4] Французский социолог Размиг Кешиян в своей книге «Левое полушарие», вписывая Харви в «критическую теорию», ссылается преимущественно на его поздние работы и вообще не упоминает его имени в контексте постмодерна, традиционно отдавая приоритет Джеймисону [Keucheyan, 2013].
Все перечисленные нападки на ригидность марксизма Харви часто исходят от левых. Надо признать, что у Харви и современного марксизма в самом деле непростые отношения, и некоторые марксисты очень часто находят «ресурсы для критики» творчества Харви, но не все. Так, суровый и весьма последовательный британский марксист Алекс Каллиникос в кратком, но содержательном очерке «Дэвид Харви и марксизм» проясняет, чем именно нынешние левые могут быть обязаны Харви [Callinicos, 2006]. Каллиникос называет четыре особенные черты теоретического наследия Харви. Во-первых, Харви установил непосредственную связь с ключевой работой всей классической традиции – «Капиталом» Маркса, и книги «Пределы капитала» и «Состояние постмодерна» являются ценным вкладом в марксистскую политическую экономию. Во-вторых, Каллиникос признает, что Харви улучшил исторический материализм географическим измерением. В-третьих, Харви всегда выражал готовность хладнокровно исследовать темы, которые многие марксисты презирали. Такой темой, к слову, был постмодерн, и Каллиникос отмечает, что в «этом существенная разница между Харви и другими марксистскими участниками дискуссии о постмодерне». Таковым был сам Каллиникос, написавший предельно критичную книгу о постмодерне, в которой исследовательская оптика была вытеснена критикой [Callinicos, 1990]. В-четвертых, в отличие от многих иных англоязычных марксистов, Харви является настоящим политическим активистом. Это признает не только Каллиникос, но и Хассан: «Харви всегда был активистом, то есть тем, кто не только пишет о борьбе, но и лично участвует в ней» [Hassan, 2020, р. 2].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу