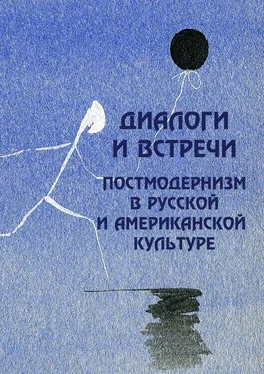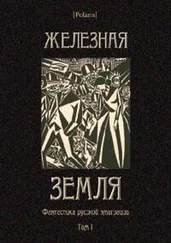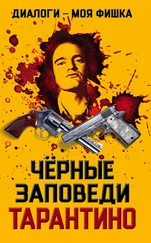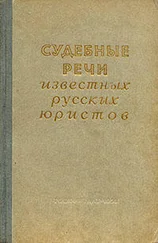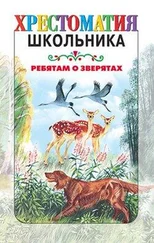Наконец, в-третьих, цифровая культура породила фактически отсутствовавшие ранее явления, а именно культуру онлайн и социальные сети. Обе эти группы явлений как бы расширили пространство культуры, предоставив новые возможности самовыражения и творчества.
И сегодня в эту новую уже не столько социальную, сколько культурную нишу, как в водоворот, оказались вовлечены миллионы представителей той массовой культуры, которая подвергалась жесткой критике со стороны отдельных лидеров постмодернизма. Многие из новых творцов именно те люди, которых Ж. Бодрийяр рассматривал как представителей косной толпы, склонных к конформизму [3]. Видимо, идеологам постмодернизма и в голову не могла прийти мысль, что на смену общества потребителей и массовой культуры идет общество новых форм производства и самовыражения.
Пока еще трудно сказать, к какому виду, а тем более жанру относятся различные новые формы самовыражения. Хорошим примером одной из них может служить следующее сетевое послание: «I voted in the upcoming US presidential elections from Tbilisi, Georgia, via the internet today. Since my ballot is via the internet, and a digital copy of my ballot must be submitted to the Elections Operation Manager in Colorado (my residence), it is not a secret ballot. This is ok with me since most people know who I’m voting» [4].
Другой пример тематически сходного плана, но выполнен он в несколько ином ключе: «I voted early-you can too! This was taken in the lobby of the Santa Clara County Registrar of Voters» [5]. В досетевую эпоху социально-психологические механизмы представления себя другому в повседневной жизни были описаны И. Гоффманом [6].
Упомянутые формы самовыражения приобретут еще более широкое распространение и необратимый характер, когда продукты и сервисы высоких информационных технологий придут в сферу воспитания и образования подрастающих поколений. Это неизбежно приведет к изменениям в формировании и накоплении навыков, умений и знаний людей, вступающих в новую жизнь, а значит и в способах их самовыражения и самоутверждения. Здесь поиск форм и точек соприкосновения, которые связывают физический и цифровые миры, становится весьма значимым. В этом направлении и работают многие современные исследователи [7].
Из всех традиционных видов культуры и искусства, возможно, в наиболее сложное положение цифровая культура ставит литературу, прежде всего в части большого романа и особенно поэтического слова. И дело совсем не в скоростях и отсутствии времени у писателей и читателей.
Проблема здесь более глубокая. Она состоит в том, что человек, взращиваемый цифровой культурой, проявляет заметную тенденцию не слышать слова. Вряд ли будет большим преувеличением сказать, что в России поэты-«шестидесятники» (Б. Ахмадуллина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Р. Рождественский и др.) были последними, кто из уст в уста могли донести свое слово широкой аудитории. Взрослевшее вместе с ними ТВ помогло огромной аудитории не только увидеть поэта, но воспринимать поэтическое слово из первых уст.
К сожалению, этот альянс просуществовал очень короткое время. Уже следующее поколение поэтов (Ю. Визбор, В. Высоцкий,
Б. Окуджава и др.) для того, чтобы их услышали, вынуждены были взять в руки гитару. Сегодня песня, как музыкальный жанр, триумфально идет по сценическим площадкам и на экранах ТВ, но ее поэтическая основа претерпевает весьма странные метаморфозы, быстро удаляясь от поэтического слога и образа. Отсюда четко выраженная тенденция – индивидуалов-поэтов, пробивающихся к зрителю и слушателю (даже с гитарой в руках), все меньше и меньше, а музыкальных групп все больше и больше.
Уже сегодня современному творцу, равно как и его зрителю, слушателю, читателю, трудно оставаться в традиционно сложившихся отношениях создателя-производителя и почитателя-потребителя. В искусстве, литературе все чаще и чаще число «писателей» превышает число «читателей». И это скорее вновь формирующаяся норма, чем распространенная рыночная трактовка данного феномена, объясняющая его посредством превышения предложения над спросом. Культура соучастия идет на смену культуре эмоционального восприятия или, как минимум, дополняет ее.
Отсюда получающий все более широкое распространение, «перфо́манс», как представление, ориентированное на аудио-визуальное восприятие. При этом события здесь развиваются, начиная с уровня мягких индивидуальных презентаций. Например, «Friday, nov. 2, pictorial gratitude. These are my sneakers. I am so grateful I can run/walk» [8]. Еще одним и уже, что весьма примечательно, межкультурным двуязычным примером здесь может служить следующая презентация: «Я счастливая обладательница этих очень уютных сережек! If smbd likes it as much as I do you have the only chance to see it-on my ears;) I own them already!» [9].
Читать дальше