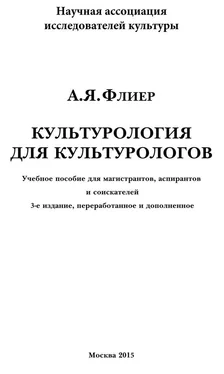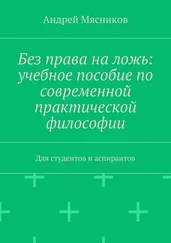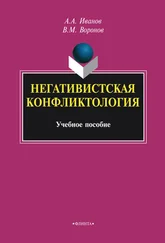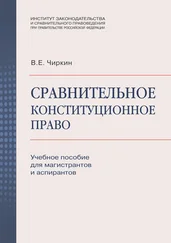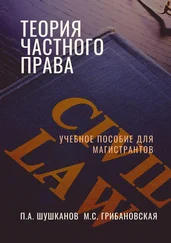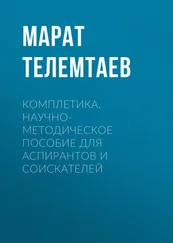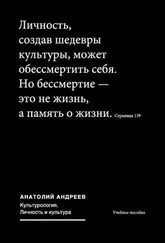Усилиями этой группы либеральной интеллигенции формировалась другая ветвь российской культурологии, базировавшаяся прежде всего на традициях отечественной исторической, филологической и искусствоведческой наук, на лингвистических реконструкциях нравов и быта минувших времен, на изучении мифов и языческой обрядности в рамках развитой отечественной школы мифологии, на семантическом анализе искусства как источника информации о культуре прошлого, но – главное – на различных вариациях теории локальных цивилизаций, идущей еще из XIX века от Н. Я. Данилевского и возрожденной в середине XX века Л. Н. Гумилевым. Кстати, именно в середине 1980-х годов впервые в СССР на русском языке вышли книги и зарубежных классиков теории цивилизаций: О. Шпенглера и А. Тойнби. Своеобразным ответвлением цивилизационных исследований, выросшим непосредственно из концепций русских «евразийцев» и этногеографических воззрений Гумилева, является школа «социоестественной истории» (Э. С. Кульпин и др.), синтезирующая современные идеи социальной синергетики и давние теории геодетерминированности исторических процессов.
Следует отметить, что огромное влияние на формирование этой ветви культурологии оказала чрезвычайно мощная традиция российского востоковедения; не будет преувеличением сказать, что российская гуманитарная культурология в существенной мере воспользовалась опытом востоковедческих исследований, распространив его на изучение русской и западной культур. Разумеется, и здесь не обошлось без обращения к достижениям зарубежных коллег: во-первых, французских семиотиков, под влиянием которых сложилась знаменитая московско-тартуская семиотическая школа во главе с Ю. М. Лотманом и Б. А. Успенским; во-вторых, французских же историков школы «Анналов», чья методика оказалась близка российским традициям изучения культуры повседневности и под воздействием которой началось формирование отечественного аналога школы ментальностей во главе с А. Я. Гуревичем, Ю. Л. Бессмертным, А. Л. Ястребицкой.
Таким образом, в течение 1960–1980-х годов в стране шло параллельное формирование двух сравнительно автономных культурологий: социальной, апеллировавшей к опыту англоамериканской и немецкой антропологии, и гуманитарной, имевшей в своей основе отечественные корни и связанной с французскими школами семиотики и «новой истории». Все 1990-е годы были посвящены попыткам объединения этих ветвей и превращения культурологии в некую «супернауку», синтезирующую в себе социально-научный и гуманитарный подходы к познанию общества и культуры.
В 1989 г. культурология была легализована как новое направление (специальность) высшего образования и как общеобразовательная дисциплина. В стране начали открываться первые культурологические кафедры, создаваться первые учебники по общеобразовательной культурологии, в чем безусловное первенство принадлежит Московскому государственному техническому университету им. Н. Э. Баумана и непосредственно Н. Г. Багдасарьян, а также Российскому открытому университету (ныне – Университет РАО) и сотрудничавшим с ним в те годы С. П. Мамонтову и Б. С. Ерасову (авторам двух первых в России учебников по общеобразовательной культурологии).
В числе основателей специального культурологического образования в стране следует назвать Г. В. Драча – в Ростове, С. Н. Иконникову – в Санкт-Петербурге, Г. И. Звереву, Т. Ф. Кузнецову и автора этих строк – в Москве.
С 1996 года культурология была введена в номенклатуру специальностей Миннауки и ВАК России. Были учреждены ученые степени доктора и кандидата культурологии, стали открываться диссертационные советы по культурологическим специальностям.
Но был и еще один фактор, определявший претензии культурологии как «супернауки». Дело в том, что основным заказчиком культурологического знания было (и в большой мере остается сейчас) образование. В 1992 году, когда из вузовских программ была убрана марксистская теория, на культурологию обратили внимание как на дисциплину, способную заменить исторический материализм. Соответственно от культурологии ожидали, что содержательно она станет «общей теорией всего», т. е. безграничным по своему размаху обществоведением (аналогично истмату). Но заказчик не учел того, что общество и его культура – это не одно и то же. А культурология изучает именно культуру (в отличие от социологии, изучающей общество). Этот социальный заказ в известной мере дезориентировал культурологов, которые в 1990-х годах занялись построением теорий общества и его динамики на базе культуры.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу