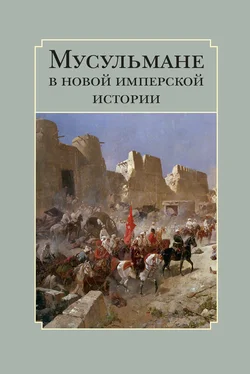«Будь твое имя написано на дне ада, Дажжал!..
Поклялся что ли уничтожить религию?
Будь ты разрублен религиозными мечами!
Почему ты не боишься хотя бы бога?
Пусть гниют корни твоей власти!
Не оставишь ли ты на земле людей религии?
Пусть будут несчастны дни твоего тухума!
Ученые арабисты вам мешают что ли?..»
Положения другой «листовки» дальше от оригинала. Они были явно «переведены» на антирелигиозный советский язык того времени. Судный день (йаум ад-дин) превратился в нем в «приближение… конца» советской власти. Его признаками названы «создание… колхозов, артелей», «повышение правоспособности девушек», «запрещение торговли», «открытие ясель». В аварском оригинале, как можно догадаться, говорилось, что советская власть запрещает разрешенное шариатом (халал) и разрешает запретное (харам). Возможно все же, что оба текста вышли из суфийских кругов. В пользу такого предположения говорят близкие к ним по форме и содержанию арабские эпитафии, обнаруженные мной в 1995 г. на мавзолее упомянутого в деле шейха Хусейна ибн Пир-Мухаммада из Хуштада. Первая, высеченная 4 раби‘ ас-сани 1354 (6 июля 1934) г., называет его «знаменитым шейхом, совершенным наставником и учителем накшбандийского тариката, страдальцем…. умершим мучеником (шахидан) в заточении… в 1349 (1930-31) году». Слева от нее под стеклом тушью на ватмане написана эпитафия его сына Абдуллаха, скончавшегося 1 зу-л-хиджжа 1360 (20 декабря 1941) г., «скрываясь… от неверующих и лицемеров, убивающих ученых и святых (ал-‘улама’ ва-л-аулийа’) и расхищающих их добро».
С мавзолеем накшбандийских шейхов в с. Хуштада Цумадинского района связан обширный пласт местных устных преданий, прославляющих высокую религиозность горцев, их верность исламу. Он воплощает для хуштадинцев местные исламские традиции. Хуштадинцы любят рассказывать не столько про деятельность Хусейна, сколько про его гибель. Говорят, что в разгар коллективизации его арестовали и отвезли в Махачкалу. Изъятую при аресте арабскую библиотеку целый день жгли в райцентре. Хуштадинцы выкрали тело шейха. Переломив ему хребет, его в мешке привезли в селение, где тайно похоронили. Бежавший из ссылки в Казахстане сын погибшего Абдулла пробрался на родину и до смерти жил на подношения хуштадинцев, скрываясь от властей в землянке-худжра в горах над селением. После Абдуллы имамом в Хуштаде был сначала Сайпулла (ум. 1972), а затем его ученик и бывший муэдзин (будун) Шерапутдин (ум. 1995). Мне с гордостью поведали, что только благодаря самоотверженности этих имамов джума-мечеть селения ни разу не закрывалась в годы советских гонений. До 1989 г. она оставалась единственной легально действующей мечетью всего Цумадинского района [192] Подробнее об этом см.: В.О. Бобровников. Археология строительства исламских традиций в дагестанском колхозе//Ab imperio (Казань), 2004, № 3. С. 574–575.
.
* * *
Я высказал лишь некоторые методологические соображения по поводу этого интересного источника. Стихи мусульман Северного Кавказа еще абсолютно не изучены. Между тем они чрезвычайно важны. Чего стоят хотя бы арабские стихотворения руководителя антисоветского восстания 1920–1921 гг. Наджм ад-дина из Гоцоба (Гоцинского)! Завершая эту статью, я хочу еще раз отметить важность для исследования российских мусульман на Северном Кавказе таких факторов, как язык архивных источников, наличие их официального перевода, авторство анонимных служебных записок и доносов одной фракции местной мусульманской элиты на другую, критерии статистики мусульманских общин и учреждений, ее идеологический подтекст и, наконец, значение устных историй для реконструкции прошлого и настоящего значения архивных документов. Разобранные выше архивные материалы из Дагестана, Северо-Западного Кавказа и Болгарии говорят о том, что и после архивной революции исследование архивных первоисточников по истории ислама в царской и советской России далеко не закончено. Хочется надеяться, что на Северном Кавказе оно будет продолжено.
Колониализм и мусульманское сопротивление
Андижанское восстание 1898 года и «мусульманский вопрос» в Туркестане (взгляды «колонизаторов» и «колонизированных») [193] Статья написана в рамках проекта “Islamic Area Studies” Tokyo University (координатор – προφ. H. Komatsu), а также программы автора по фонду “Fulbright” (Indiana University). Выражаю благодарность С.Н. Абашину, сделавшему мне интересные замечания в ходе работы над статьей, а также анонимному рецензенту А/и редакции за полезные советы и вопросы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу