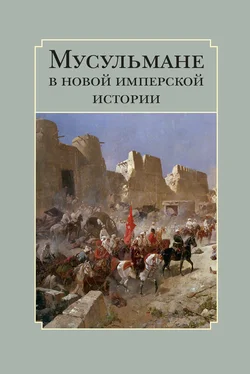Российские мусульмане после архивной революции: взгляд с Кавказа и из Болгарии
Владимир Бобровников
Об архивной революции конца XX в., связанной с открытием российских архивов после крушения советского режима, немало говорили и писали 1. Она всколыхнула и Северный Кавказ. Для историков это было голодное и беспокойное, но благодатное время открытия российских архивов. Открылись неизвестные или недоступные прежде частные собрания и провинциальные архивы. В научный оборот введено множество новых источников, не только на русском, но и на различных западных и восточных языках. Пали старые границы, идеологические барьеры и теоретические шоры. К изучению российской истории подключились прежде далекие от русистики востоковеды. В России и за рубежом появилось несколько классических работ о мусульманах окраин. Из них для Кавказа особенно важную [154] Из недавних попыток осмыслить архивную революцию как научную проблему стоит отметить международный семинар “Russia and Islam in the archives of Eurasia”, организованный американским кавказоведом Шоном Поллоком в Гарримановском институте при Колумбийском университете в Нью-Йорке 1 декабря 2007 г. Доклады об архивных исследованиях по исламу в России, бывших республиках СССР и Турции, представленные на семинаре, послужили основой отдельного блока публикаций, изданных в журнале “Ab Imperio” (2008. № 4). Настоящая статья представляет собой существенно переработанную русскую версию моего выступления на семинаре 2007 г.
роль сыграли сравнительные межрегиональные исследования немецкого исламоведа Михаэля Кемпера о мусульманской духовной элите, знании и власти в Поволжье и Дагестане XIX в. [155] Kemper М. Sufis und Gelehrte in Tatarien und Baschkirien, 1789–1889. Der islamische Diskurs unter russischer Herrschaft. Berlin, 1998; Idem. Herrschaft, Recht und Islam in Daghestan. Von den Khanaten und Gemein-debiinden zum gihad-Staat. Wiesbaden, 2005. Недавно появился русский перевод первой книги: Кемпер М. Суфии и ученые в Татарстане и Башкортостане. Исламский дискурс под русским господством. Казань, 2008.
, подготовленные с его участием сборники статей и источников о культуре мусульман Российской империи и СССР [156] Muslim Culture in Russia and Central Asia / Ed. by Kemper M. et al. Vol. 1–4. Berlin, 1996, 1998, 2000, 2004.
.
Дагестанские историки внесли свою лепту в изучение этой необъятной темы. Начиная с 90-х гг. в центре и на окраинах России хлынул не иссякающий доныне поток публикаций о мусульманах российского и советского Северного Кавказа. В большинстве своем они касались отношений государства с мусульманскими общинами и представляли собой пересказ архивных документов, не отягченный особыми теоретическими рассуждениями и саморефлексией [157] См., например: Репрессии 30-х годов в Дагестане / сост. М. Бутаев, Г. Какагасанов, Р. Джамбулатова. Махачкала, 1997. Ср.: Органы государственной безопасности и общество. Кабардино-Балкария (1920–1992). Сборник документов и материалов / сост. и комм. А.В. Казакова. Нальчик, 2007.
. По справедливому замечанию Адиба Халида, внутренняя общественная и частная жизнь мусульман выпадает из поля зрения таких источников [158] См. Khalid A. Searching for Muslim Voices in Post-Soviet Archives // Ab Imperio. 2008. № 4. P. 302–312.
. В целом положение в источниковедении региона сильно напоминает общее неопределенное и мятущееся состояние современной российской науки. С одной стороны, перед ней открылись новые рубежи, связанные с открытием архивов, о работе в которых не могли помыслить многие поколения историков. С другой – она не может выйти из историографического кризиса, втискивая новые данные в отжившие позитивистские глобальные схемы и беспрестанно пережевывая официозные обществоведческие понятия, унаследованные ею от советской эпохи и эклектически смешанные с обрывками понятийного аппарата науки постмодерна.
Архивная революция оказалась частью и моей биографии. Темой моих исследований служат религиозные и правовые практики мусульман-суннитов Северного Кавказа, в основном из Нагорного Дагестана. Меня в особенности интересует, как в период бесконечных и глобальных государственных реформ, начавшихся на дореволюционном Кавказе еще во второй трети XIX в. и продолжавшихся при советской власти, их жизнь менялась на микроуровне – в сельских общинах, или джамаатах. Я занимаюсь этим более двадцати пяти лет, где-то с начала 1990-х годов. Наряду с полевыми этнографическими материалами моими источниками служат документы на восточных и русском языках из государственных и частных собраний Дагестана. Для любого историка, которому случилось жить и работать при советской власти, ясно, что постановка такой научной проблемы была по меньшей мере проблематичной даже в позднем Советском Союзе. По этой причине архивная революция продолжает иметь для меня очень личное значение. В этой работе я хочу поделиться наблюдениями, вынесенными из опыта архивной работы в регионе и за его пределами, обсудить некоторые общие проблемы изучения и издания архивных источников, с которыми сталкиваются в своей профессиональной работе востоковеды и историки-русисты.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу