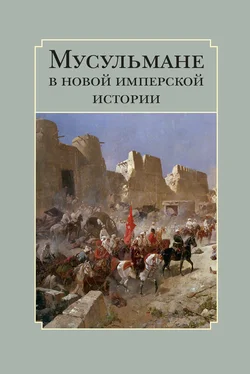Бернштам сожалел, что, несмотря на регулярные экспедиции с 1930-х гг., происхождение и характер таких крупных городов, как Отрар, Сыгнак и Сауран, до сих пор неизвестно. Бернштам предположил, что развитие городов в этом регионе, вероятно, отличалось от городов в Семиречье, где поселения представляли собой древние согдийские колонии [125] Такие же идеи встречаются в недавнем исследовании о согдийских поселениях в Семиречье: de la Vaissiere Е. Sogdian Traders: A History, translated by J. Ward (Leiden: Brill, 2005), p. 114.
. Согласно Бернштаму, изучение этого вопроса помогло бы наконец определить границы согдийского культурного влияния в регионе. При этом он старался избегать вопроса о происхождении казахов, очевидно, стараясь не ввязываться в сильно политизированный национальный дискурс [126] Shnirel’mcin V.A. “From Internationalism to Nationalism”, pp. 128–129.
.
Итак, Маргулан критиковал Семенова за его арийскую теорию, в то время как Бернштам указывал на ошибки Маргулана в его интерпретации селищ в центральной части Казахстана. В 1952 г. все они подверглись критике со стороны казахстанского историка Сергея Шахматова, который тогда работал в Институте истории, археологии и этнографии. Критика Шахматова явно была частью политической борьбы с «космополитизмом». Шахматов выявил ряд систематических «ошибок» в казахской археологии. В ходе политической кампании он обвинял археологов Сергея Толстова и Александра Бернштама в следовании яфетической теории Марра [127] Шахматов В.Ф. О некоторых ошибках в археологическом изучении Казахстана//Вестник Академии наук КазССР 1 (82) 1952. С. 92–94. О Марре и его теории см.: Slezkine Y. N. la Marr and the National Origins of Soviet Ethnogenesis. Slavic Review 55, 4 (1996), pp. 826–862.
. И вот арийская теория была вновь использована против Бернштама, Массона и даже Якубовского. Шахматов заявил, что их учитель и коллега В.В. Бартольд был одним из основателей согдийской теории происхождения городов в Семиречье и на юге Казахстана, которая противоречит аксиоме об автохтонном характере древних культур на территории Казахстана. По мнению Шахматова, все эти ученые, в том числе и ранний Якубовский, утверждали, что городскую цивилизацию в Казахстан завезли иностранные завоеватели, иранцы (согдийцы) и арабы. Шахматов считал это утверждение результатом преувеличения роли согдийцев в регионе, приводящим к мнению о «неисторичности» народов Казахстана и разделению на передовые и отсталые народы [128] В.Ф. Шахматов. О некоторых ошибках. С. 96–97.
.
Однако такая интерпретация в корне не соответствовала тому, о чем говорил Бернштам на конференции ГАИМК в 1948 г., а именно, что археологи на самом деле смогли показать историческую роль народов Средней Азии, он даже сравнил их многовековую историю с историей древних цивилизаций Египта и Месопотамии [129] РА НА ИИМК, фонд 312, опись 1, 1948, дело 277. Пленум, посвященный археологии Средней Азии. Ленинград, лл. 17–18.
. В официальном письме к президенту Академии наук СССР участники конференции ГАИМК справедливо указали, что успех советской среднеазиатской археологии способствовал написанию историиУзбекистана, Туркменистана, Киргизии, Таджикистана и, на мой взгляд, также Казахстана [130] Там же, дело 280. Резолюция, принятая на пленуме, посвященном археологии Средней Азии, и письмо к президенту АН СССР от 31 марта 1948 года, л. 4.
. Теперь же, в 1952 г., обе стороны утверждали, что они боролись против расистских теорий, против различия между народами, но все ученые признали местное происхождение казахской городской культуры. Археологи должны были найти связь между древними городищами и современным населением.
Ученики Бернштама следовали новому тренду: Агеева и Пацевич в совместной статье о городах Южного Казахстана пришли к выводу, что гипотеза о согдийском происхождении городов был неверна и что все археологические и нарративные источники указывают на независимое и непрерывное развитие городской культуры в регионе с первых веков нашей эры. Несмотря на то, что эти города возникли независимо друг от друга, Агеева и Пацевич все же соглашались с тем, что структура казахских городских поселений была схожа с трансоксианскими примерами [131] Агеева Е.И., Пацевич Г.И. Из истории оседлых поселений и городов Южного Казахстана // Труды Института истории, археологии и этнографии, вып. 5, Археология. Алма-Ата, 1958. С. 72, 214.
.
Период 1940-1950-х гг. был временем перехода от организации работы ленинградских специалистов на месте к сотрудничеству с местными кадрами, а затем и к появлению казахской ветви восточной археологии. Бернштам в это время передал свои полномочия в качестве главы Южно-Казахстанской археологической экспедиции своей ученице в Алма-Ате Е.И. Агеевой. Подготовка научных кадров была важной проблемой на повестке дня. В 1955 г. один из историков в Алма-Ате, Б.С. Сулейменов, подчеркнул: «по специальности “археология” нам необходимо готовить научные кадры в совершенстве владеющие восточными языками, а кто ими не владеет, не сможет решать задач, поставленных перед археологами» [132] ОБА КН МОН РК, фонд 2, опись 10, дело 10.8, Переписка с Институтом истории по научным вопросам за 1955 год, 1955–1956, л. 138.
. С 1951 г. Южно-Казахстанская экспедиция формально управлялась отделением археологии Института истории в Алма-Ате, и никакие документы по этому региону не отправлялись в архив ГАИМК в Ленинград. В то время как институционально казахская археология становилась, таким образом, независимой, по-прежнему нужны были специалисты из Ленинграда, чтобы проводить по крайней мере часть работ и предоставлять методологические консультации. Тем не менее, вместе с перемещением центра подготовки и координации из Ленинграда в Алма-Ату мы наблюдаем полномасштабную национализацию археологии, а с конца 1950-х гг. казахская археология и вовсе ориентируется на национальный дискурс.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу