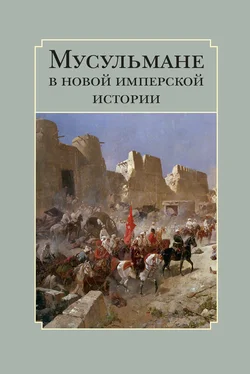Но в целом в позднеимперский период была проделана лишь небольшая работа, выполненная на низком техническом уровне, что в большей степени способствовало разрушению памятников, а не научным находкам. Археологические проекты в Средней Азии во многом имели колонизаторский характер. Для многих главной идеей было коллекционирование «сокровищ» из далекого прошлого. Исследовательские экспедиции предпринимались время от времени и всегда только столичными учеными, которые использовали местных жителей лишь в качестве рабочей силы. Находки, как правило, перевозились в Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге и не были предназначены для демонстрации в регионе. Миссия по транспортировке предметов была возложена на Императорскую Археологическую Комиссию, учрежденную императором Александром II в 1859 г. [58] Там же. С. 11.
Тем не менее, как уже отметила Вера Тольц, уже в 1870-х гг. русские археологи старались сохранить свои находки на месте раскопок или рядом с ними. Одной из причин этого была дороговизна перевозки артефактов в Санкт-Петербург. Но что важнее, мы сталкиваемся с первыми проявлениями мысли о том, что археология должна продвигать идею о «родном отечестве» (Родине) местным народам, что в конечном счете укрепляло бы всероссийскую идентичность. Русские востоковеды считали, что в этом заключается большая разница между ними и их «варварскими» европейскими коллегами, которые стремились только к пополнению своих музейных коллекций [59] Vera Tolz. “Orientalism, Nationalism, and Ethnic Diversity in Late Imperial Russia”, The Historical Journal 48, 1 (2005), pp. 137, 144.
. По словам Веры Тольц, близкий коллега В.В. Бартольда буддолог С.Ф. Ольденбург «начал рассматривать европейские археологические практики как проявление западного колониализма на “Востоке” и в целом упрекал западную школу в грабеже культурных ценностей восточных обществ» [60] Vera Tolz . Russia’s Own Orient: The Politics of Identity and Oriental Studies in the Late Imperial and Early Soviet Periods (Oxford: Oxford University Press, 2011), p. 56, 101.
.
Нет сомнений в том, что в Средней Азии были музеи, особенно в Ташкенте; однако практика сохранения местных артефактов не была широко распространена в регионе вплоть до появления первых комплексных советских экспедиций. Русское колониальное общество в Средней Азии действительно было очень заинтересовано в археологии, и им были предприняты первые шаги в направлении создания археологической науки в регионе. Самой важной из этих инициатив было создание «Туркестанского кружка любителей археологии» (1895–1917) в Ташкенте, образованного в результате сотрудничества В.В Бартольда и местных исследователей, наиболее известным из которых был Н.П. Остроумов (1846–1930) [61] Bakhtiyar Babajanov, “How Will We Appear in the Eyes of Inovertsy and Inorodtsy?” Nikolai Ostroumov on the Image and Function of Russian Power,” Central Asian Survey , 33:2 (2014), 270–288.
. Члены кружка акцентировали свое внимание на роли арийского оседлого населения, рассматривая его в качестве единственной цивилизованной группы в регионе [62] Германов B.A. Туркестанский кружок любителей археологии: примат науки или идеологии // Вестник Каракалпакского отделения Академии наук Ре с публики Уз беки стан. 1.1996. С. 90–97; Лунин Б.В. Из истории русского востоковедения и археологии в Туркестане. Туркестанский кружок любителей археологии (1895–1917). Ташкент: Изд-во Академии наук УзССР, 1958. О современных спорах вокруг арийской культуры в Средней Азии см.: V. Shnirelman. “Aryans of Proto-Turks? Contested Ancestors in Contemporary Central Asia”, Nationalities Papers 37, 5 (2009), pp. 557–587.
. Такого же мнения относительно арийского прошлого в Средней Азии придерживалась Императорская археологическая комиссия в Петербурге. По запросу Комиссии Николай Веселовский проводил в течение нескольких месяцев 1885 года раскопки в городище Афрасияб (недалеко от Самарканда) [63] Лунин Б.В. Средняя Азия в научном наследии отечественного востоковедения. Ташкент: Фан, 1979. С. 44–51.
, а Валентин Жуковский провел археологический сезон на руинах древнего Мерва в 1890 г. [64] Жуковский В.А. Древности Закаспийского края. Развалины Старого Мерва//Материалы по археологии России 16. СПб: Археологическая комиссия, 1894.
Оба городища были широко известны как центры иранской культуры.
После Октябрьской революции большевики учредили некоторое количество новых исследовательских институтов в Петрограде и Москве; одним из них стала Академия истории материальной культуры (1919), там также располагался специальный разряд археологии Средней Азии. Бартольд, заведующий отделом, рекомендовал продолжить работу в Мерве («единственном [древнем] месте в Средней Азии, которое хорошо известно по историческим источникам» [65] Алекшин В.А. Сектор/ отдел археологии Средней/ Центральной Азии и Кавказа ЛОИИМК АН СССР ГАИМК РАН и его предшественники в ИАК-РАИМК-ГАИМК-ИИМК АН СССР (основные вехи истории) // Записки Института истории материальной культуры 2007/2. С. 14.
), Афрасиябе и Хиве. Бартольд задавался вопросом, действительно ли иранцы были коренным населением Средней Азии, или же они переселились сюда из других мест. По его мнению, культурные достижения ариев были слишком переоценены, тогда как «варварство тюрок» преувеличено; и это «значительно повлияло на понимание научных задач России в Туркестане» [66] Цит. по: V. Tolz. Russia’s Own Orient, p. 61.
. Однако Гражданская война помешала интенсивной работе в этом направлении.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу