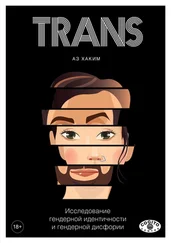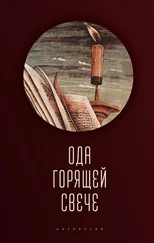«Можно ожидать, что каждая культура будет соответствующим образом изменяться, сталкиваясь с событиями, которые до тех пор находились вне системы: вторжением неведомого доселе народа, землетрясением, эпидемией, пришедшей в общество извне, и т. п. …
Она также мимоходом указывает на понимание культур как «исторически стандартизированных систем» и отмечает, что «каждый член каждого поколения от младенчества и до преклонного возраста вносит вклад… в переистолкование культурных форм». И наоборот, необдуманные авантюры в процессе культурного изменения могут потерпеть крах, столкнувшись с национальным характером народа (ibid). Такие связи между межпоколенными изменениями в личности и культурными событиями, находящимися вне цикла взросления, предположительно, опосредствуются самим процессом развития ребенка. Например, экономические и технологические изменения, которые происходят вследствие рациональных («периферийных») мотивов или принудительных изменений в среде, могут приводить в движение другие изменения, вызывающие в конечном итоге преобразования в практиках воспитания. Таким образом, межпоколенное изменение характера может происходить через культурные изменения, которые сначала оказывают влияние на иосда-инфантильный опыт. Рисмен (1950), например, усматривает наличие общей взаимосвязи между демографическими условиями, экономическим процессом, семейной структурой и структурой личности. Почти во всех исследованиях такого рода личность понимается как зависимая переменная, экономическое изменение (или миграция) – как независимая, а практики социализации – как промежуточная переменная, зависящая от экономического изменения (или миграции). Кроме того, обычно считается самоочевидным, что изменения в базисной личности происходят очень медленно и становятся заметными лишь после того, как проваливаются попытки ограничить культурное изменение или направить его в определенное русло, либо после того, как базисная личность под воздействием стресса претерпевает крупные и болезненные деформации.
Часто полагают, что культурные изменения, повышающие степень гетерогенности общества – например, аккультурация и урбанизация, представляют серьезную угрозу как для личности, так и для социальной интеграции (см.: Mead, 1947b; Beaglehole, 1949). Представление, будто гетерогенные культуры, расколотые на множество несоизмеримых фрагментов, непременно должны производить личности, раздираемые внутренними конфликтами, является следствием общего тезиса, определяющего интеграцию как функцию гомогенности. Между тем, с точки зрения теории организации многообразия, культурное изменение не обязательно является травматическим; на самом деле, его следует рассматривать как естественное условие человеческого существования. Если посмотреть на большинство «живых» культур как на культуры гетерогенные и пребывающие в постоянном, относительно быстром изменении (быстрое изменение, кстати, не обязательно подразумевает изменение в материальных артефактах или быструю кумулятивную эволюцию), то мы прежде всего заметим, что теперь гетерогенность и изменение, по определению, уже не предполагают психологической и культурной дезорганизации. Причины такой дезорганизации следует искать где угодно, но только не в гетерогенности и не в изменении как таковых. Фундаментальной проблемой становится, опять-таки, организация многообразия, а не копирование единообразия.
Таким образом, вполне возможно, что в «гетерогенной» и быстро изменяющейся культуре будет производиться более широкое разнообразие личностных типов, нежели в гомогенной медленно изменяющейся культуре. Каждый из этих типов может быть внутренне не менее устойчивым, чем любой тип, производимый в стабильной гомогенной культуре. Проблема такого сложного общества будет заключаться не в том, что у всех его членов будет расщеплена личность, а скорее в том, что для его членов могут оказаться непосильными проблемы социокультурной организации. В последнем случае многие индивиды могут вторично пережить лишения и фрустрации и начать страдать психосоматическими и невротическими недомоганиями; однако это будет следствием неспособности системы ответить на чаяния некоторых ее членов. Это в свою очередь вызывает подозрение, что подгруппы, традиционно находящиеся в обществе в ущемленном положении – например, этнические или религиозные меньшинства, коренное население, находящееся под иноземным господством, или низшие экономические классы, – могут страдать от интенсивного дискомфорта и болезненности. Это не является прямым следствием гетерогенности общества, а связано с теми конкретными ущемлениями данных подгрупп, которые заставляют их непропорционально много страдать, такими, как недостаточное питание, презрение со стороны окружающих, эпидемические заболевания, физическое переутомление и (на чем мы подробно остановимся в следующей главе) шок культурной утраты.
Читать дальше
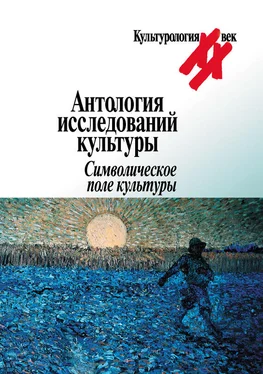
![Array Коллектив авторов - Здравствуйте, доктор! Записки пациентов [антология]](/books/73502/array-kollektiv-avtorov-zdravstvujte-doktor-zapi-thumb.webp)