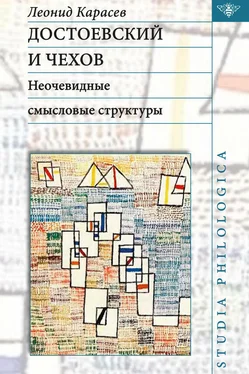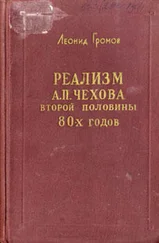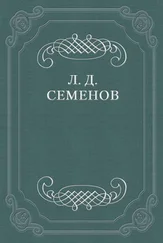Раскольников-убийца зачарован звоном колокольчика: не случайно он так яростно дергает дверной звонок, еще и еще раз вслушиваясь в его звук. В руке Мити Карамазова оказывается пестик, то есть вещь, родственная колоколу. Ставрогин в «Бесах» в тоске по колоколу подвешивает себя на «колокольне» своего дома: подниматься туда пришлось «чуть не под крышу по деревянной, длинной, очень узенькой и ужасно крутой лестнице»; каланча-колокольня и шлем-колокол пожарника становятся свидетелями смерти Свидригайлова. Медное тело, живое, напряженно гудящее под ударами, зовущее к себе и в себя: высота, добраться до которой можно лишь задыхаясь, страдая от «спертого духа», толкая перед собой тяжелый камень вины и страдания. Превращение в колокол притягательно, но и вместе с тем смертельно: это отливка в жизнь новую, ради которой нужно повиснуть на огромной высоте, ожидая всякий миг смертельного падения на землю.
Не случайно у Достоевского все самые главные вещи висят ; висит чистое белье на веревках, висят в петлях двери, на снурках висят нательные кресты, в петле под пальто Раскольникова висит топор. Все время ощущается что-то вроде «обета» высоты, принудительного полета, вроде висевшего на земной орбите топора из «Братьев Карамазовых». Угроза падения реальна и смертельна. В этом смысле точка рождения-смерти, к которой стремятся герои Достоевского, антитетически раскладывается на темы рождения-подъема и смерти-падения.
Упавший на землю колокол оказывается способен передать самую суть нераздельности, слитности рождения и смерти: в нем есть и память о прежней высоте, тяга к ней, ведь только поднявшись над землей, колокол может звучать и жить, и есть здесь трагическая немота приземленности. Пафос светлый, положительный – при всей логической равноправности обоих полюсов – все же оказывается сильнее. Смыслы высоты, света и рождения, угадывающиеся в колоколе, пусть даже в колоколе, упавшем на землю, одолевают смыслы низа, тьмы и смерти: даже если смотреть на колокол только как на тело, то рождающее лоно – это самое большее, что можно в нем увидеть. Могилы же, которой требует антитетическая логика мифа, тут отыскать не удастся; трагизм, надколотость, временная немота есть, но всепобеждающей смерти нет. Колокол – христианский колокол – в мифологию не вмещается.
* * *
В «Дневнике писателя» Достоевский не раз говорит о силе впечатлений, особенно самых ранних; о том, какой «след» они оставляют в душе человека на всю жизнь. Для самого Достоевского таким ранним впечатлением стало чтение Евангелия. «Мы в семействе своем знали Евангелие чуть не с первого детства»: след этого знания запечатлелся и в душе, и в художестве. Главные символы Достоевского это Евангельские символы: крест, белый саван, усекновенная глава, тлетворный дух. Здесь же оказывается и камень – тот, что был отодвинут от могилы Лазаря. Что касается колокола и колокольни, то и они идут как впечатления «первого детства». «Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным. У других, может быть, не было такого рода воспоминаний, как у меня» («Дневник писателя»).
Колокол и колокольня Достоевского находятся в Кремле, друг подле друга. Огромный Царь-колокол с отколотым куском и уходящая в небо гигантская колокольня Ивана Великого сами собой сложились в «сюжет», известный каждому побывавшему возле них ребенку. Колокол поднимали на башню, он упал и раскололся: детский ум склонен объяснять дело именно так, и это «открытие» побеждает все приходящие позже интерпретации случившегося. Как модель, как наглядный образ, такая параллель небесполезна: не объясняя всего Достоевского, она открывает в нем нечто весьма важное. «Вещество» литературы затвердевает, приобретает вид двух кремлевских достопамятностей, каждая из которых может стать эмблемой русской истории и судьбы. В свою очередь, сам Царь-колокол и возносящаяся над ним башня, соприкасаясь с романами Достоевского, вызывают в них ответные соразмерные звоны.
Вверх и вниз
(Достоевский и Платонов)
Казалось, он улетал куда-то вверх, и все исчезало в глазах его…
Ф. Достоевский «Преступление и наказание»
Дорога пошла в многоверстный уклон…
А. Платонов «Чевенгур»
Достоевский и Платонов похожи друг на друга и вместе с тем не похожи. Причем сближает их как раз то, что разделяет: они часто занимают полярные позиции, но делают это в рамках единого смыслового поля. Можно сказать, что Платонов выстраивает свой мир против мира Достоевского; выстраивает не с целью опровергнуть, отменить, а органически, стихийно, отправляясь не только от своего идеологического несогласия с Достоевским, но и от собственных интуиций, в том числе, и интуиций телесных.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу