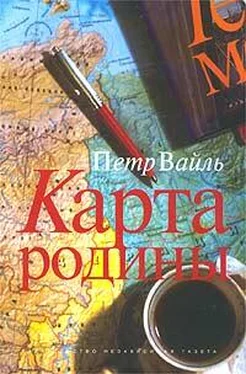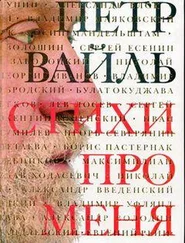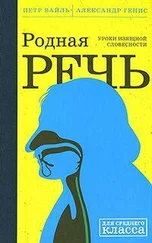Царили добродушный цинизм и неуемное острословие, ни фразы без иронии. Многие хорошие слова были заняты и практически выведены из пристойного употребления. Компартия официально именовалась «ум, честь и совесть нашей эпохи», и ни в чем не повинные существительные «ум», «честь» и «совесть» стало невозможно без стыда или насмешки применить ни к чему и ни к кому.
Сходным образом через четверть века, в стране уже менее идеологической, чем потребительской, хорошие слова опять стали исчезать, занятые в сфере коммерции. «Любовь», «преданность», «верность», «надежность», «чувствительность» — разошлись на стиральные порошки и подгузники. Кто может объяснить, что такое «пиво романтиков и мечтателей»? А когда на экране возникает слово «свобода», надо чуть подождать, разъяснение последует — «свобода от перхоти».
В редакции «Молодежки» наблюдался характерный слой тогдашнего общества: тонкий, порядочный, неполноценный. Посмеиваясь, публиковали очерки на темы нравственности: надо ли обрезать страховочный трос, чтобы ценой жизни одного альпиниста спасти всю группу? Рецензию на крамольный спектакль начинали с выдержки из Брежнева. Повседневная речь пестрела цитатами из Ильфа и Петрова. Метафизика черпалась из «Мастера и Маргариты». На редакционной даче в Дзинтари, передавая по кругу машинописные копии, читали Солженицына. Рассуждали о Фолкнере и Маркесе, чтили Камю и Хемингуэя. Тепло улыбались при имени Экзюпери: один из моральных оплотов шестидесятничества.
Сент-Экзюпери — не великий, не выдающийся писатель, просто неплохой, что немало. Но по сути он больше чем литератор — культовая фигура в романтическом ореоле не вполне человеческих обстоятельств бытия: жизнь провел в небе, смерть нашел в море. В читательском сознании Экзюпери и существовал то ли в немереных высотах, то ли в непроглядных глубинах — к таким культурным героям обращаются за заповедным знанием, ждут уроков и находят их
Так советские люди 60-х, растерянные откровениями своей истории и политики, раскрыли Экзюпери. Сказка «Маленький принц», наивная и простенькая, могла бы пройти мимо душевной потребности, если б не фраза: «Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил».
Советские люди прочли эти слова на двадцать лет позже, чем они были написаны, — но как раз вовремя. Только-только начало приходить сознание, что преемственность необходима, что течение истории непрерывно и взаимосвязано, что зло всегда порождает зло, а добро иногда порождает добро. А тут решительно и впрямую: о том, что человек есть сумма поступков, а не помыслов, о невозможности одиночества, об ответственности за слова и дела — в семье, в обществе, в любви, в политике: «Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил».
Телевидение мои коллеги презирали, советское кино, за редкими исключениями (Тарковский, Параджанов, панфиловское «Начало»), тоже. Кто-то съездил в Польшу, посмотрел там «Конформиста», потом три часа пересказывал фильм Бертолуччи в мелких подробностях. По молодости я стеснялся сказать, что едва не заснул на «Земляничной поляне», скучал на «Зеркале», что люблю комедии Леонида Гайдая. Смешное мне казалось верным, юмор — единственно возможным мировосприятием, эксцентрика — свободой.
Герои славной гайдаевской тройки носили говорящие имена, по шутовским законам комедии — имена-перевертыши. Вечно садящийся в лужу Бывалый — олицетворение честной незащищенности: неизбежный удел личности в социуме. Балбес — воплощенный здравый смысл. Трус — мужество и стойкость, не подвластные ни обществу, ни государству. С этих троих можно было делать жизнь. Их фразы расходились квантами житейской мудрости не хуже Ильфа и Петрова. Реплика «Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше» закодировала внятную философию, уводящую от туманного лозунга к повседневной заботе, от идеологии к жизни.
Еще у всех троих было одно общее имя — свобода. Они появились на экране в то время, когда впервые приоткрылось многое из того, что распахнулось настежь через четверть века. Рефлекторная свобода той оттепели запечатлелась во многом: молодежной прозе, Театре на Таганке, интимной лирике, а отчетливее всего — в эксцентрике гайдаевского кино, где тройка Моргунов-Никулин-Вицин обладала тем, чего прежде не видали: пластикой свободного человека.
Достоевский писал, что смех — «вернейшая проба души». Наша свобода начиналась со смеха.
В «Молодежке» за три года я прошел через разные работы: выпускающий, корреспондент, зав.отделом информации, дослужился до зам.ответственного секретаря. С этой должности меня выгнали, когда заподозрили, что собираюсь эмигрировать. Поскольку такое вслух не проговаривалось, уволили по статье «несоответствие занимаемой должности», что было глупо: я числился «золотым пером», официально держал первое место в творческом соревновании. Я подал в суд.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу