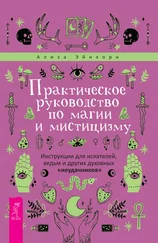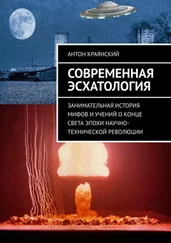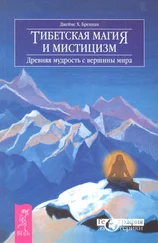Но, определив магию как боковое ответвление могучего дерева, простирающего свои ветви навстречу солнцу объективной истины, первые антропологи были склонны упускать из виду позитивные аспекты, которые были утеряны при переходе от магии к науке, произошедшем в западном обществе. Главной потерей было резонирующее мировоззрение, которое органически привязывает представления мага и его обряды к холистической сети космических, животных и родовых сил. Это мировоззрение и есть та самая «антропологическая матрица», о которой мы говорили в первой главе: живое поле культурных практик и нарративов, которые сложно переплетены с миром предметов и природных законов и, таким образом, попросту не могут быть сведены к подлежащей изучению и использованию «объективной реальности». Можно даже сказать, что первые апологеты «наук о человеке» на Западе сами проявляли известное невежество, полагая, что научные процедуры позволяют им преодолевать антропологическую матрицу их собственных культур.
Будучи своего рода социальными и экологическими психотерапевтами своих сообществ, шаманы и туземные знахари не отделяли магию как эмпирическую науку от магии как виртуального театра, театра, где маг утверждает антропологическую матрицу, воплощая ее своим существованием. Поэтому хотя маги и оперируют на материальном уровне, используя камни, огонь и травы, они устремляют свои помыслы в область человеческого воображения, этой прирожденной способности нашего разума, которая раскинула свои сети между зонами восприятия, памяти и сновидений. Используя язык, костюмы, жесты, песнопения и драматургические приемы, маги применяют techne к области социального воображаемого, активно используя образы, желания и мифы, которые частично структурируют коллективную душу. Посредством этой творческой манипуляции с фантазмами, маги вызывают к жизни впечатления, обычаи и состояния сознания, которые в свою очередь воздействуют на всю конструкцию племенной реальности в целом. Это не некромантия, а нейромантия.
Если Брюно Латур прав и Запад никогда не покидал свою антропологическую матрицу, тогда каково же различие между мирами, которые конструируют маги и ученые? В своей книге «Магия, наука, религия и границы рациональности» антрополог Стэнли Джейараджа Там-бия приводит аргументы в пользу «множественного устройства реальности»: различных культурных полей знания и опыта, которые, в сущности, творят различные миры. Тамбия сравнивает и противопоставляет два основных поля, которые можно отыскать в человеческой культуре: одно основано на принципе причинной связи, а другое — на принципе соучастия. Причинность в конечном счете порождает прагматический рационализм науки. Разделенное в себе эго индивидуума разделяет на разные фрагменты и стихию мироздания в соответствии с объективными объяснительными схемами, основанными на нейтралитете в теории и инструментализме на практике. Мир соучастия погружает личность в коллективное море, которое стирает границу между человеческими усилиями и окружающей средой. В таком мире, который я связываю с магической парадигмой, языком и ритуалом, мир не разделен, дабы удовлетворять объективным критериям оценки, но является как один непрерывный процесс становления. Объекты в этом потоке организуются по символическим соответствиям, и в нем господствуют не сухие и объективные классификации, отличающие научные тексты и корпоративные отчеты, но риторика сновидения.
Все культуры и общества демонстрируют смесь в различных пропорциях этих двух ориентации. Мир соучастия характерен для архаичных и дописьменных культур, в то время как современные обитатели мира повседневности описывают его, пользуясь научно-технической логикой причинно-следственной связи. Но хотя наша космология научна, наша культура и коллективные ритуалы такими не являются. Технологическая цивилизация, окутавшая земной шар, на самом деле пронизана различными формами соучастия: массовыми спортивными играми, поп-музыкой, сетевыми видеоиграми, различными модными поветриями. А медиатехнологии вполне могут служить искомым усилителем коллективного резонанса, который рождается в глубинах наших душ, охваченных страстью к соучастию.
Таким и был взгляд Маршалла Маклюэна. Маклюэн был убежден, что электронные медиатехнологии стирают логический, линейный и последовательный взгляд на мир, преобладающий на современном Западе. Он считал, что это «причинное» мировоззрение само по себе является продуктом развития технологии, особенно алфавитно-цифрового письма, книгопечатания и перспективной живописи Возрождения. Но с распространением новых медиатехнологии, таких как фонограф, радио и телевидение, старая парадигма грамотности и логичности начала трещать по швам. Когда был взят курс на зрительные образы, воспроизведение звука и одновременное участие многих в одном и том же событии, электронная среда вызвала из-под спуда рациональности древние пласты коллективной души, принадлежащие старым дописьменным культурам. «Вся цивилизация является продуктом фонетической письменности, — писал он, — и по мере того как она растворяется в ходе электронной революции, мы заново открываем племенное, целостное сознание, которое, проявляет себя в полном сдвиге чувственной сферы нашей жизни» 143. Маклюэн описывает возникающее электронное общество как «резонирующий мир, близкий к старой племенной комнате шепотов, мир, в котором снова найдется место для магии» 144.
Читать дальше
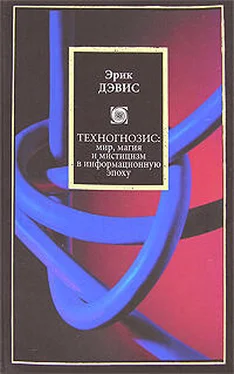
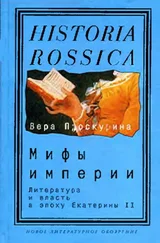
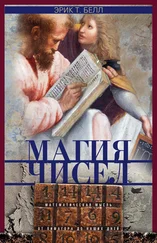
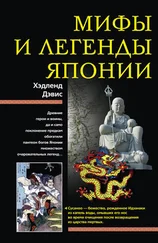



![Эрик Л’Ом - Магия невидимого острова [litres]](/books/423003/erik-l-om-magiya-nevidimogo-ostrova-litres-thumb.webp)