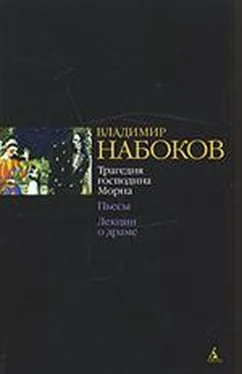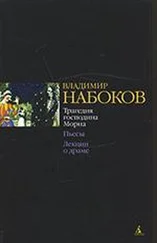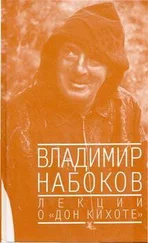В заключение Набоков разбирает «Аристократов» Погодина, «в которых рассказывается о целительном, более того, волшебном влиянии Тяжкого Труда в концентрационном лагере на Белом море на вредителей, воров, уголовников, проституток, бывших министров и убийц, "перекованных" в добрых советских граждан <...> Интеллектуальный уровень пьесы — это уровень журналов для детей; с точки зрения нравственной, она на уровне фальсификаций или подхалимства. Впрочем, один или два пункта имеют некоторую ценность с научной точки зрения. Мы находим в этой пьесе, как и в "Оптимистической трагедии", тот же комический дуализм, который сплетает этику большевизма с этикой традиционного гуманизма. Преступники, которые вначале отказывались работать и смеялись над государственными идеалами <...> соблазняются на строительство канала, подрыв скал, осушение болот, рубку леса и тому подобные занятия, что, по замыслу, должно пробудить в них те же чувства и состояния разума, что и у людей любых классов и вероисповеданий: дух соперничества, гордость, честь, мужественность и т. д. С одной стороны, у нас имеются эти совершенно лживо задуманные персонажи, экс-инженеры, экс-бандиты, эск-все-что-угодно, чья безраздельная преданность государству может быть оплачена соблазном все новых подачек, добрым отношением и остроумными уловками укротителей; с другой стороны, у нас есть руководитель, который возвышается над любой человеческой эмоцией, Чекист, Железный человек коммунизма, чей идеал — Совершенное государство. Этого-то двойного искажения жизни (здесь надо подчеркнуть, что в настоящем советском лагере подобных тонкостей не сыскать: только надсмотрщик над рабами и сами рабы — избиения, кровь и болота) довольно для того, чтобы любые литературные притязания любого автора потерпели поражение, потому что даже если кто-то может решить, что натяжки в книге или пьесе проистекают из какого-нибудь одного и всепроникающего заблуждения относительно политической реальности, он не в силах принять произведения, основанного одновременно на двух ложных посылках, исключающих одна другую. Находясь в очень доброжелательном расположении духа, мы можем благосклонно отнестись к пьесе, которая зиждется лишь на благословении убийства во имя совершенного социализма, как мы можем в том же настроении снисходительно отнестись к пьесе о доброй женщине, стремящейся помочь уэльскому углекопу поступить в университет. Но мы не можем принять сочетание стали и патоки — просто не сочетаемые вещи, — если сталь не превратится в жесть или патока не станет машинным маслом. Трагедия советских драматургов в том, что они пытаются совместить две традиции: традицию стали и традицию патоки. И если какой-нибудь гений, появившись среди них, использует пропаганду как реквизит***, чтобы вскоре оставить ее и податься к звездам, ангелы-хранители истинной веры тут же схватят его за лодыжки» (Ibid.).
В отличие от лекций о советской драме, публикуемые в настоящем издании лекции Набокова носят более теоретический характер и, по замечанию Д. Набокова, «в сжатом виде содержат многие из основных принципов, которыми он руководствовался при сочинении, чтении и постановке пьес». В «нотабене» к этим лекциям Набоков записал: «<...> 1а) Драматургия существует, существуют и все компоненты совершенной пьесы, но эта совершенная пьеса, при том, что существуют совершенные романы, рассказы, стихи, эссе, еще не написана ни Шекспиром, ни Чеховым. Ее можно вообразить, и однажды она будет создана — либо англосаксом, либо русским. 16) Взорвать миф о рядовом зрителе. 2) Рассмотреть условности и идеи, препятствующие написанию и постановке такой пьесы. 3) Суммировать уже известные положительные силы, предложить на их основе новый метод...» (цит. по: Б04. С. 40). Перевод выполнен по N84, с учетом текста лекций, хранящегося в BCNA.
... мой дед <...> надумал устроить у себя в доме частный театр...— Имеется в виду И.В.Рукавишников (1841 — 1901), о котором Набоков писал в «Других берегах» так: «...тревожно-размашистый чудак с дикой страстью к охоте, с разными затеями, с собственной гимназией для сыновей, где преподавали лучшие петербургские профессора, с частным театром, на котором у него играли Варламов и Давыдов...» (Н5. С. 182).
К.А.Варламов (1849—1915), знаменитый русский актер, выступавший в Александрийском театре в Петербурге, был известен своей манерой почти фамильярного обращения с публикой: вступал в диалог с залом, включал в свою роль целые монологи от себя.
Читать дальше