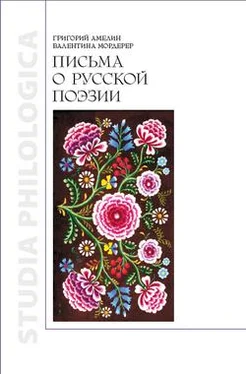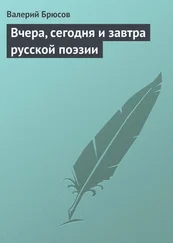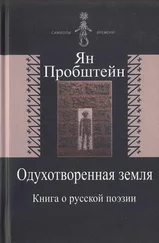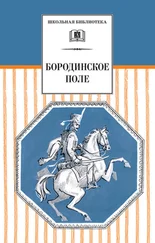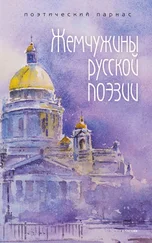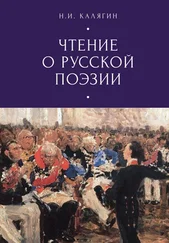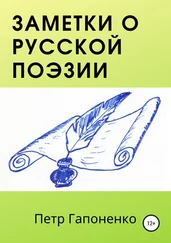О загадочной фразе из псевдоитальянской арии разговор придется вести отдельно, чтобы показать и услышать ее печальный и лукавый жизнеутверждающий мотив. Ведь даже простая «логика» пения не предполагает, что буквы арии кто-то (Цинциннат, например) будет рассыпать и восстанавливать в фразу «Смерть мила, это тайна». А именно к такому результату пришел Барабтарло после «скраблево» – анаграмматического аттракциона.
Долговечнее меди (лат.).
В. Г. Бенедиктов. Стихотворения. Л., 1983. С. 213.
Марина Цветаева. Неизданное. Записные книжки: т. II: 1919–1939. М., 2001. С. 368.
Николай Асеев, «поэтусторонний», как он сам себя назовет, в стихотворении «Последний разговор», обращенном к Маяковскому, уже потустороннему, напишет:
Лежит
маяка подрытым подножьем,
на толпы
себя разрядив и помножив;
бесценных слов
транжира и мот,
мо лчит,
тишину за выстрелом тиша;
но я
и сквозь дебри
мрачнейших немот
голос,
меня сотрясающий, слышу.
Крупны,
тяжелы,
солоны на вкус
раздельных слов
отборные зерна…
(Николай Асеев. Стихотворения и поэмы. Л., 1967. С. 282–283).
«Но наутро она стала задавать вопросы о том, что такое Мотовилиха и что там делали ночью, и узнала, что Мотовилиха – завод, казенный завод, и что делают там чугун, а из чугуна… Но это ее не занимало уже, а интересовало ее, не страны ли особые то, что называют «заводы», и кто там живет; но этих вопросов она не задавала и их почему-то умышленно скрыла. В это утро она вышла из того младенчества, в котором находилась ночью» (IV, 36).
Ср.: ««Еще не звук» и «уже не звук» – вот что важно исследовать и испытать тому, кто занимается фортепианной игрой» (Генрих Нейгауз. Об искусстве фортепианной игры. М., 1999. С. 68).
Андрей Белый. Начало века. М., 1990. С. 139. Слова, по Белому, избавляют от страдания. Он признавался Гумилеву: «Я переделал Евангелие от Иоанна. Помните? «В начале бе Слово». Но «слова» по-французски – mots и «страдания» – тоже maux, фонетически совпадает, одинаково произносится. И это правильно. Ясно. В начале – mots, или maux – страдания. Мир произошел из страданий. И оттого нам необходимо столько слов. Оттого, что слова превращаются в звуки и свет и избавляют нас от страдания. «Les mots nous delivrent des maux» [Слова избавляют нас от страданий (франц.)]» (Ирина Одоевцева. На берегах Невы. М., 1989. С. 225).
Белый вспоминал о Штейнере: «Вот почему и на эзотерических уроках вторую часть лозунга произносил он: «Ин…, – наступало молчание (и – сквозь глаза его виделся Кто-то), – …моримур» [In morimur – «в нем мы умирали» (лат.)], – произносил он отрывисто, строго-взволнованно, как бы наполненный жизнью того, что стоит между «ин» и «моримур». К этому молчанию в докторе я и апеллирую; чтобы стало ясно, что переживали мы в Лейпциге и чего именно нет в изданном «курсе». Знаю: он давал медитации, смысл которых был в жизни Имени в нас: место Имени – будто случайные буквы. Медитация над Именем – путь: доктор не был лишь «имяславцем». Взывал к большему: к умению славить Имя дыханием внутренним с погашением внешнего словесного звука: к рождению – слова в сердце» (Андрей Белый. Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности. Воспоминания о Штейнере. М., 2000. С. 496–497). Молчание, чреватое словом, mot, у Цветаевой: «О мои словесные молчаливые пиршества – одна – на улице, идя за молоком!» (Марина Цветаева. Неизданное. Записные книжки в двух томах. 1913–1919. М., 2000. Т. I. С. 437).
Мандельштам легко бы мог так сказать. В первом из его восьмистиший:
Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то четырех задыханий
Придет выпрямительный вздох.
И дугами парусных гонок
Зеленые формы чертя,
Играет пространство спросонок —
Не знавшее люльки дитя. (III, 76)
Белый писал: «Ритм – первое проявление музыки: это – ветер, волнующий голубой океан облачной зыбью: облака рождаются от столкновения ветров, облачная дымка поэзии – от сложности музыкальных ритмов души» (Андрей Белый. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 175). Первообразный ритм дыхания – молчаливый ткач стиха. «Я ритмом дышал…» (Анненский). Ритмическая схема – лодочкой (п —). Ветер вдоха и выдоха наполняет паруса, легато переходит в регату. Дыхание поэта пробуждает пространство, которое приходит ему на помощь. Дуга – форма мира и структурирующей этот мир поэтической речи:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу