1 ...6 7 8 10 11 12 ...89 Изумруд и порей
В императорском Риме зеленый цвет встречается чаще – и в одежде, и в художественном творчестве, и в быту, по крайней мере у наиболее состоятельных римлян. В данном случае это объясняется влиянием уже не столько варварской моды, сколько моды, пришедшей с Востока. Начиная с I века нашей эры зеленый широко используется в оформлении роскошных римских вилл – например, Золотого дома Нерона – и во многих домах Помпеи. В росписи стен, выполненной в технике тромплей, художники стараются как можно достовернее изобразить цветники и плодовые сады; на этих фресках растительность представлена в изобилии, а зеленые тона – в большом разнообразии. Художники пользуются большим набором пигментов, от светло- до темно-зеленых, от синеватых до желтоватых, чтобы передать всевозможные оттенки зелени, – оттенки, для которых латинский язык затруднился бы подобрать названия. Вдобавок живописцы, в отличие от красильщиков, могут смешивать краски и накладывать одну поверх другой, что позволяет им существенно расширить палитру. Та же тенденц ия проявляется и в напольной мозаике: здесь присутствует разнообразная гамма зеленых и синих тонов. Даже если художники добиваются скорее световых эффектов, чем реалистического колорита, частая необходимость изображать сцены рыбной ловли или охоты, в которых всегда присут ству ют вода, трава и деревья, заставляет их активно использовать зеленый цвет.
К зеленому цвету в оформлении интерьеров добавляется полихромная роспись в архитектуре и скульптуре. Нам стоит напрочь забыть неоклассический образ Древнего Рима, в котором храмы и общественные здания якобы сверкали нетронутой белизной. Этот образ не соответствует действительности. Всё, или почти всё, в том числе статуи и скульптурные композиции, было покрыто росписью. Точно так же обстояло дело и в Греции – и в архаическую, и в классическую, и в эллинистическую эпохи. Странно, что есть люди, которые до сих пор отказываются признать этот давно уже установленный факт – даже несмотря на многочисленные свидетельства историографических документов. В конце XVIII – начале XIX века, когда молодые археологи и архитекторы отправляются в свое первое путешествие на средиземноморский Восток, на Сицилию, в Грецию и еще дальше, они находят на стенах разрушенных храмов и на более или менее поврежденных статуях следы полихромной росписи. Они пишут об этом в отчетах, которые отсылают маститым ученым из академий Лондона, Парижа и Берлина. Но ученые, никогда не ступавшие на землю Греции и Рима, отказываются верить этим отчетам: они не в состоянии представить себе, что храмы и статуи древних были многоцветными. Позднее, в середине XIX века, под давлением многочисленных свидетельств, некоторые эрудиты в конце концов стали допускать существование некоей, как они выражались, «умеренной полихромии». Но сменится несколько поколений, будет проделано бесчисленное множество путешествий и собрано великое множество материалов, прежде чем академический мир признает очевидное: в Древней Греции и Древнем Риме людей повсюду окружало многообразие и буйство красок [24] Grand-Clément A. Couleur et esthétique classique au XIXe siècle. L’art grec antique pouvait-il être polychrome? (см. прим. 14).
. Сегодня уже ни один исследователь не станет оспаривать этот факт, а замечательные работы, опубликованные в последнее время, и организованные недавно выставки только лишний раз подтверждают его [25] Кроме диссертации А. Гран-Клемана (см. прим. 3), см. по этой теме каталоги двух недавних и очень интересных выставок: Die Farben der Götter. München (Glyptothek). Июнь – сентябрь 2008; Roma. La pittura di un impero. Roma (Quirinale). Сентябрь 2009 – январь 2010.
. Но широкая публика тем не менее до сих пор представляет себе Афины и Рим в виде белоснежных, только что построенных городов, какими их изображают в фильмах и комиксах.
Вообще говоря, в эпоху Империи повседневная жизнь Рима стала более красочной, чем была во времена Республики. Среди цветов, недавно вошедших в обиход, – зеленый, а также фиолетовый, розовый, оранжевый и даже синий. Но такие новшества нравятся не всем. Некоторые моралисты и защитники традиций решительно осуждают новомодные colores fl oridi (яркие цвета) – легкомысленные, обманчивые, вульгарные, слишком резкие или слишком декоративные, которые редко появляются поодиночке, но, как правило, в неожиданных сочетаниях, чтобы создать убийственный контраст или крикливую палитру. Критики противопоставляют им colores austeri, сдержанные цвета, серьезные, степенные, неброские: некогда Рим достиг величия, потому что был верен этим цветам (белому, красному, желтому, черному). Одним из самых ревностных защитников традиций и старого цветового порядка становится Плиний Старший, причем его возмущение вызывают не столько одежда, сколько живопись и декоративно-прикладное искусство. В своей обширной «Естественной истории» он неоднократно обрушивается с критикой на новые пигменты, завезенные с Востока, на практику смешивания красок, которая извращает их природные свойства, и, если обобщить, на то, что мы сегодня назвали бы «современным искусством» [26] Плиний. Естественная история. XXXV. 12 и далее; XXXVI. 45. См.: Gage J. Color and Culture. Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction. London: Thames and Hudson, 1993. Pp. 14–33.
. Надо сказать, Плиний – не единственный противник новых веяний и тех цветов, которые вместе с ними входят в моду. До него в этом духе уже высказывались Катон и Цицерон, в его время – Сенека, Квинтиллиан и даже Витрувий. Так, Сенека высмеивает новое оформление терм и купален, где «мужчины обнажены, а стены разряжены, словно павлины» [27] Сенека. Письма. LXXXVI, CXIV–CXV.
. Позднее с подобными обличениями будут выступать Тацит, Ювенал, Тертуллиан и другие: любое новшество, касающееся красок, как в живописи, так и в одежде, для них неприемлемо и заслуживает осуждения. То какой-то оттенок цвета они находят слишком далеким от природы либо слишком резким; то какое-то сочетание контрастирующих цветов считают безвкусным либо непристойным. Больше всего их возмущает пестрота (varietas colorum), даже если речь идет всего лишь о полосатой ткани или о декоративном элементе наподобие шахматной доски: все это – недопустимое варварство [28] Pastoureau M. l‘Étoffe du Diable. Une histoire des rayures et des tissus rayés. Paris, 1991. Рp. 17–47.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
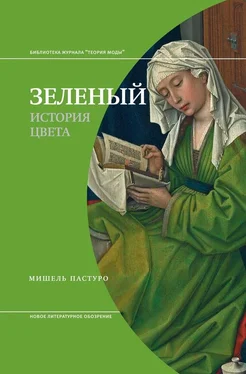






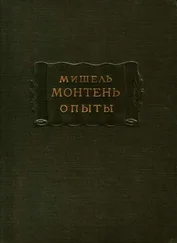
![Мишель Пастуро - Дьявольская материя [История полосок и полосатых тканей]](/books/414747/mishel-pasturo-dyavolskaya-materiya-istoriya-poloso-thumb.webp)



