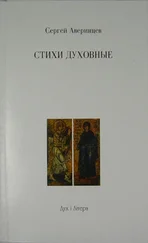И все же, и все же — чего-то все наши подходы не схватывают. Что-то останется за пределами наших рассуждений: секрет личности Бахтина. В известной мере он разделял этот секрет с теми, с кем его связала, как, скажем, с Марией Вениаминовной Юдиной (называю именно ее просто потому, что лично ее знал и в силах живо представить себе), солидарность судьбы; связала поверх всех барьеров личного разномыслия (об этом разномыслии забывать тоже не след). Были черты, общие для всех живших тогда посреди «варваров», как живая память утопической Атлантиды (грань, отделявшая Бахтина не только от вульгарно-советского официоза, но, что важно, и от футуристско-опоязовской культуры, выражена наряду с прочим и в приверженности мыслителя к символистскому культурному типу, особенно к Вяч. Иванову). Среди этих черт следует назвать очень трудно постижимое для нас соединение трагизма — и притом, как настаивал сам Михаил Михайлович в одном из разговоров с В. Д. Дувакиным, такого трагизма, в сравнении с которым все греческие трагедии представляются невинными и наивными, — и какой-то неискоренимой, ибо укорененной очень глубоко, совершенно особой по тембру веселости, решительно ничего общего не имеющей с так называемым оптимизмом. Общая черта людей его формации, но у него выступавшая как-то специфически. Веселости этой мы не сыщем в младших, и схватить се, как кажется, труднее, чем трагизм, труднее всего. В том известном портрете Бахтина, который является едва ли не самой удачной работой покойного Юрия Селиверстова, всякий прочувствует трагизм, но вот того, что я, может быть, не совсем ладно называю бахтин-ской веселостью, мне лично в нем все-таки недостает...
По-русски есть удивительно емкая, но легко подающая повод к недоразумению похвала — «легкий человек». Я думаю, что к Бахтину она подходит. «Легкий» никак не значит «легкомысленный»; это свойство, уживающееся не только с глубокомысленной вдумчивостью, но и с трагическим чувством жизни, даже по-своему именно с трагедией гармонирующее — во всяком случае, больше, чем то, что по-английски называется self-pity, копящее обиды жалость к себе. Легкий человек обид не помнит. Читатель, это редко даже среди людей уважаемых: в разговорах со мной один почтенный академический старец сетовал на то, как на него лет пятьдесят назад не так посмотрел некто, бывший старцем тогда, а еще один человек, куда более интересный и значительный, чем первый, и столь же маститый и академический, почти дрожал от ярости, вспоминая насмешки но своему адресу, увы, давным-давно расстрелянного в сталинских застенках насмешника. Пожалуйста, перечитайте очень непринужденные беседы Бахтина, явно не рассчитанные ни на какую последующую публикацию и сохраненные магнитофоном Дувакина: есть там хоть слово в таком роде, хоть одна надрывная жалоба на то, как там бахтинские коллеги не понимали, третировали и т. д.? Вот то-то же. Жалоб не сыщется и но более серьезным мотивам. Даже о занимавшихся Бахтиным гэпэушниках там говорится прямо как-то чудно — а что, неплохие были люди, жалко, их же потом самих расстреляли... По-моему, покойный В. Н. Турбин не совсем верно интерпретировал этот тон в разговорах о гэпэушниках как открытых к «диалогу» — диалогу с чем? Контекст делает слово «открытость» неуместным, ибо вызывает в памяти идиому «расколоться». Я не решусь называть это свойство Бахтина, скажем, христианской кротостью (хотя на это похоже, честное слово, больше чем на «открытость»). Назову еще раз — легкостью.
Человек, столетие со дня рождения которого мы празднуем, сумел сделать очень много. Без его идей, без его новшеств весь свет немог обойтись; мы нуждаемся в них и тогда, когда с ними спорим (спор, даже отталкивание, не худшая форма «рецепции», а отталкиваться от чего попало — дело негожее). Литературоведение очень долго их не исчерпает. Выяснение философского смысла, философского контекста, философского сцепления этих идей вовсю идет на наших глазах. Но все-таки важнее всего, больше, драгоценнее всего, им сделанного, — он сам. Это обычно именно для людей символистской культуры. Тот же Вяч. Иванов уж никоим образом не механическая сумма: поэт + общекультурный деятель + философ — эстетик + историк религии. И даже Блок, который уж точно что поэт, и только поэт, все же несводим к поэзии как «стихам», но живет в памяти культуры как лицо и как «миф». Бахтин жил во время более строгое, чем Серебряный век, и мифом ему быть не пристало. Но слово «личность» значит в применении к нему нечто иное, чем «выдающийся деятель умственной жизни». Скорее уж вспоминается строка Гёте, объясняющая, что личность — hochstes Gliick Erdenkinder, высшее счастье сынов земли. Счастье, незаслуженно даваемое нам, — прежде всего не в концептах, а в личности, от которой эти концепты исходят. И если мы говорим о Бахтине как философе, то ведь философ, по мысли греков, изобретших это слово, не изобретатель новых умственных конструкций, а тот, кто любит мудрость и живет этой любовью, а потому жизнь у него не совсем такая, как у прочих, этой любви чуждых. Вот Сократ, тот и вовсе ничего не написал, и специалисты все никак не сговорятся об объеме новых идей, принесенных им в кладовку идей; а он стал чуть ли не воплощением эллинского ума. Вот и в лице и речи Михаила Михайловича мне всегда чудилось что-то сократовское.
Читать дальше