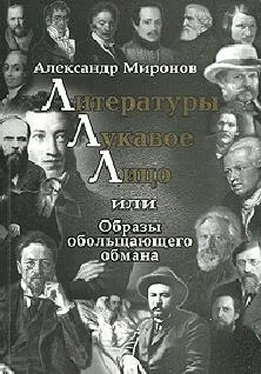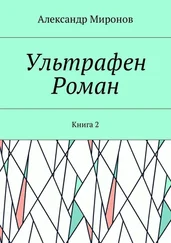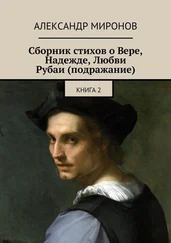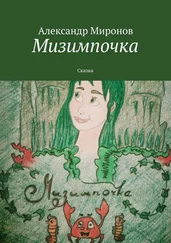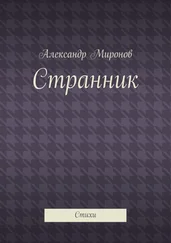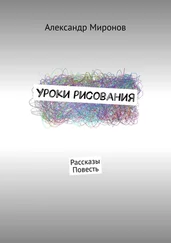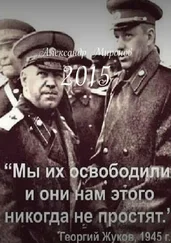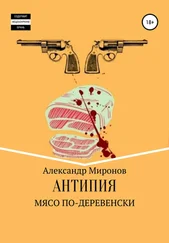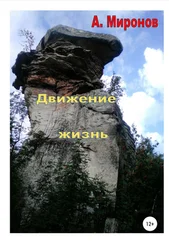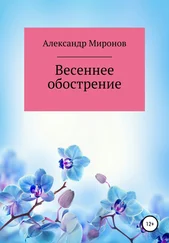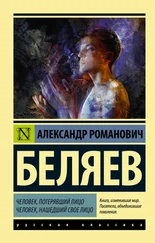Но вернемся к тексту рассматриваемого романа. Также в речах старца Зосимы в числе вполне примечательного находим уже такое рассуждение: «Если возможешь принять на себя преступление стоящего пред тобою и судимого сердцем твоим преступника, то немедленно приими и пострадай за него сам, его же без укора отпусти. И даже если б и самый закон поставил тебя его судиею, то сколь лишь возможно будет тебе, сотвори и тогда в духе сем, ибо уйдет и осудит себя сам еще горше суда твоего». Вновь перед нами утопия писателя. Почему? Да потому, что Достоевский рисует преступника как тонко организованного и совестливого человека, который лишь нечаянно оступился. Но так ли в реальной жизни? Нет, в реальной жизни главным образом действует иной принцип: «попался – сам и виноват, впредь, смотри, не попадайся». Посему ежели суды нужны, то они судят, а ежели не нужны, то их и не устраивают. А призыв к неосуждению греха попросту вреден и ведет к еще большему греху. Почему? Да потому, что грех человеческий не может не осуждаться, а должен людьми непременно изживаться здесь и теперь. Другое дело, что вне воцарения среди людей праведности, которая, кстати, сама по себе без целенаправленного труда никогда и нигде не возникнет, сие занятие будет очевидно малоуспешным и даже вредным. Далее наш писатель от имени старца Зосимы назидательно излагает уже такое: «Не принимает род людской пророков своих и избивает их, но любят люди мучеников своих и чтят тех, коих замучили». Но тогда получается, что пока не убьем, то и не полюбим, что ли? Славная философия, ничего не скажешь – вполне достойная даже распинателей, например, Иисуса Христа. Но ведет ли сия дорога к Богу сама по себе кого-либо, где-либо и когда-либо? Вряд ли. Здесь же старец Зосима, рассуждая о природе ада, заявляет такое: ад – это «страдание о том, что нельзя уже более любить». Причем речь идет о тех, кто при жизни своей на земле и не любил вовсе. Но тогда получается, что писатель говорит о том, что попросту невозможно. Почему? Да потому, что переживание о чем-то по сути незнаемом вообще-то есть всего лишь умственное затруднение, в данном случае самого Ф. М. Достоевского. Но, уверовав в провозглашенное автором романа убеждение об аде, любой человек неизбежно становится заложником своего рода предложенной ему умственной галлюцинации. Видимо, поэтому-то и не случайно вовсе впоследствии по кончине старца Алексей столкнулся с такими мыслями: «Ну и пусть бы не было чудес вовсе, пусть бы ничего не объявилось чудного и не оправдалось немедленно ожидаемое, но зачем же объявилось бесславие, зачем попустился позор, зачем это поспешное тление, "предупредившее естество", как говорили злобные монахи?» Но кто виноват, что обнаруженная героем романа мнимая праведность понимается им как подлинная? И потом, возникшее разочарование юноши от факта тления тела старца не станет ли прологом его будущего бунта? Но тогда получается, что фальшивое старчество и есть источник богоборчества? Странно и печально это, но ничего не поделаешь. Именно из единого по сути своей религиозного источника выходят и демократы, и либералы, и революционеры, и даже террористы всех мастей и оттенков. Причем часто внешне они выходят даже как бы и вопреки названному основанию. Но все равно именно последнему они обязаны целиком собственному появлению на свет. Другими словами, они все есть продукт внутренне присущих этому источнику противоречий. Каковы они? Вероятно, таковы, каковы противоречия самого писателя. В результате Алексей Карамазов вполне искренне заявляет: «Я против бога моего не бунтуюсь, я только "мира его не принимаю"». В таком случае автор романа вместе со своим героем вновь впадает в обольщение. Почему? Потому, что неприятие мира Божьего и есть фактическое неприятие и самого Бога. Строго говоря, нельзя же подлинно любить Бога и одновременно презирать все Его творение. Продолжая развитие сформированного ранее понимания ценностей человеческой жизни, Ф. М. Достоевский в сцене появления Алексея в доме Грушеньки (возлюбленной его брата Дмитрия и одновременно его отца, Федора Павловича Карамазова) от имени последней говорит: «Пожалел он (Алеша. – Авт.) меня первый, единый, вот что! Зачем ты, херувим, не приходил прежде, – упала вдруг она пред ним на колени как бы в исступлении. – Я всю жизнь такого, как ты, ждала, знала, что кто-то такой придет и меня простит. Верила, что и меня кто-то полюбит, гадкую, не за один только срам!…» Вот она, прямая замена веры в Бога верой в человека. Хорошо ли это? Вряд ли.
Читать дальше