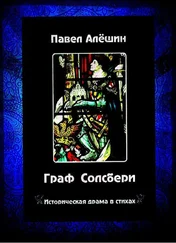Пример Фонвизина показывает, что просветитель, который оживлял классицистические каноны картинами неуклюжей и аляповатой жизни Простаковых и Скотининых, не мог выступить в качестве последовательного защитника традиционных, “здоровых” русских устоев. Даже интерес к проблемам религии и увлечение мартинизмом, усилившиеся в последние годы писателя в связи с болезнью и поправением политического курса правительства, не повлияли на его отношение к Европе и России. Однако в следующем поколении русских европейцев отход от либеральных, рационально-реалистических взглядов на жизнь мог привести к серьезному кризису европеистских настроений. Свидетельство тому — духовная драма Николая Карамзина.
Для поколения Белинского и Герцена имя Карамзина было связано с “Историей государства Российского”, с консервативными проектами “спасения” отечества от “хаоса” европейских революционных потрясений, с идеей органичности и “народности” русского самодержавия. Однако для читателей конца XVIII — начала XIX века Карамзин был идолом “арзамасцев”, борцом за европейское обновление русского литературного языка, а также автором “Писем русского путешественника”, которые не были путевыми заметками, а писались в Москве по возвращении из заграничного путешествия. “Письма” были задуманы как своего рода энциклопедия, знакомившая русских людей с новейшими достижениями европейской техники, с просвещенными формами общежития, с обликом и творениями величайших мыслителей, писателей и поэтов того времени — Канта, Гердера, Виланда, Клопштока, Гёте, Лафатера, Руссо и наконец с политическим устройством самых передовых стран Европы — Швейцарии и Великобритании. Шаг за шагом, от письма к письму путешественник заставляет читателя полюбить удобства западной жизни, хозяйственность жителей европейского Запада, их экономность, опрятность, трудолюбие, привязанность к семейному очагу — все те важные ценности, которые были выработаны веками поступательного развития и которые объединяются у Карамзина в общем понятии человечности. Последнее было калькой с немецкого HumanitКt, восходившего к латинскому humanitas. Слова человечность и гуманность (так же как промышленность и еще множество других слов, без которых нельзя представить себе современного русского языка) были введены в обиход именно Карамзиным.
Вряд ли можно согласиться с А.Валицким, который утверждал, что “гуманный космополитизм” “русского путешественника” был неглубоким [84] [84] Walicki A. W kregu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego slowianofilstwa. Warszawa, 1964. S. 30.
: “Письма” свидетельствуют о том, что “любопытный скиф” вполне освоил богатство европейской культуры, за исключением философии, углубленное изучение которой в России еще не наступило. Заметим, что Карамзин мог быть сыном Фонвизина и отцом Чаадаева [85] [85] Фонвизин родился в 1744, Карамзин в 1766, а Чаадаев в 1794 г.
. При чтении сразу обращают на себя внимание начитанность, культурная утонченность, интеллигентность автора, которая нашла выражение не только в содержании книги, но и в ее форме, вплоть до словесного стиля — а этот филологический аспект европеизма, быть может, даже важнее самих призывов следовать Европе. Это значило, что дух европейской образованности проник в плоть и кровь русского автора, определив собою стиль высказывания. В этом отношении Карамзин оставляет далеко за собой и Фонвизина, и всех других авторов XVIII века — хотя напряженного поиска мысли и смелости историософских построений, характерных для следующего, романтического поколения русских европейцев, мы у него не найдем.
Под панегириком Петру I в письме из Парижа (май 1790 года) мог бы подписаться любой западник. Совершенным диссонансом по сравнению с позднейшими высказываниями Карамзина звучат следующие слова:
Все народное ничто перед человеческим. Главное дело быть людьми, а не славянами. Что хорошо для людей, то не может быть дурно и для русских, и что англичане или немцы изобрели для пользы, выгоды человека, то мое, ибо я человек! [86] [86] Карамзин Н.М. Соч.: В 2 т. Л., 1984. Т. I. С. 346.
Эти строки были написаны в 1792 году, а 22 сентября того же года было объявлено первым днем новой эры. Собор Парижской Богоматери был превращен в Храм Разума, а Людовик XVI — казнен на гильотине по решению Конвента большинством в один голос. Террор поглощает даже тех, кто сам провозгласил его. Как тут жить сентиментальному писателю, воспитанному не на холодноватом esprit Вольтера и пламенных инвективах Дидро, а на утонченном психологизме Стерна, идиллиях Геснера и Клопштока и руссоистской мечте о тихой жизни в сельской хижине?
Читать дальше