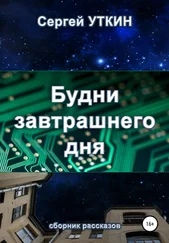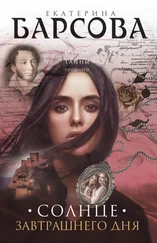Повсюду пышно цветут иллюзии и заблуждения. Как никогда прежде, люди кажутся рабами слова, лозунга, чтобы поражать им друг друга наповал: вербицид (dooddoeners) в буквальном смысле слова. Мир насыщен ненавистью и взаимонепониманием. Нет такого прибора, которым можно было бы измерить, каков процент поглупевших и одураченных и больше ли он прежнего, но сама глупость стала могущественней, чем раньше, она выше восседает на троне и злее вредит. Аморфной полукультурной массе все больше недостает спасительных тормозов уважения к традиции, форме и культу. Самое досадное — это заметная повсюду indifference a la verite (безразличие к истине), достигающая своей кульминации в открытом публичном восхвалении политического обмана.
Варваризация начинается тогда, когда в старой культуре, за многие столетия поднявшейся до высот ясности и чистоты мышления и познания, это познание начинает заволакиваться магией и фантастикой, поднятыми чадной волной ярых инстинктов и страстей. Вот когда миф теснит логос!
* * *
С каждым днем делается очевидным, в какой значительной мере новое учение о героической воле к власти, в его превознесении бытия над познанием, представляет именно те тенденции, которые в глазах сторонников духа означают путь к варварству. Во всяком случае, именно эта философия жизни и поднимает миф над логосом. Для нее слово «варварство» вовсе не звучит уничижительно. Теряет значение сам термин. Новые властители ничего иного и не желают.
Великие боги эпохи: механизация и организация — принесли жизнь и смерть. Они сделали весь мир управляемым, повсюду проложили межчеловеческие коммуникации, повсюду создали возможности сотрудничества, концентрации сил, взаимопонимания. Но вместе с дарованными ими инструментами и орудиями они принесли оковы, косность и оцепенение духа. Они переориентировали человека с индивидуализма на коллективизм, и люди всецело приняли это, однако из–за недостатка благоразумия пока преуспели только в одном — реализовать все то дурное, что содержит в себе всякий коллективизм: отрицание глубоко личного в человеке, рабство духа, — прежде чем заметили либо поняли то, что в нем есть хорошего. Или будущее и в самом деле принадлежит непрерывно растущей механизации общества по сознательно принятым, меркам чистой пользы и власти?
Все это предвидел Освальд Шпенглер, определив конечную стадию умирающей Kultur как период Zivilisation, когда все прежние живые, органические ценности вытесняются точным использованием орудий власти и ледяным исчислением желаемого эффекта. Его принципиальный пессимизм охотно мирится с тем, что подобные обстоятельства приведут сообщество к гибели. Для него гибель есть неминуемый удел всякой культуры.
Если поближе присмотреться к мрачной теории Шпенглера, то можно заметить, что она не свободна от непоследовательности, которая, мне кажется, снижает ее убедительность, в том числе и в глазах самого автора. Прежде всего масштабы шпенглеровской оценки человеческой деятельности явным образом связаны с определенным романтическим чувством. Его понятия «GroBe» («величие»), «воля сильного», «здоровые инстинкты», «воинственная здоровая радость», «нордический героизм» и «цезаризм фаустовского мира» имеют и сохраняют свои корни в почве наивного романтизма. Далее, как мне представляется, совершенно очевидно, что тот путь, которым шла последние семнадцать лет западная культура со времени выхода в свет шпенглеровского «Untergang des Abendlandes» («Закат Европы»), совсем не похож на тот, который должен был привести ее к периоду Zivilisation. Во всяком случае, хотя общество и развивалось в этом направлении, повышая техническую точность и холодное исчисление ожидаемого результата, но в то же время человеческий тип становился все менее дисциплинированным, все более пуерильным, подверженным эмоциональной реакции. И управляют нами отнюдь не те стальные орлы, о которых писал Шпенглер. Можно было бы скорее сказать, что мир являет собой картину шпенглеровской Zivilisation плюс изрядная толика безумия, обмана и жестокости, соединенных с сентиментальностью, которой он не смог предугадать. Ибо даже его Raubtier (хищник), благородный хищник, под которым подразумевался человек, должен был быть свободен от этого.
Я никогда не мог понять до конца, отчего Шпенглер хотел назвать тип современного человека с сильным духом и высокими достоинствами именем малоудачной фигуры из драматической дилогии Гете. «Фаустовская культура, фаустовская техника, фаустовские нации…» Нельзя же сказать о Фаусте, что он был хищником. Во всяком случае, Гете никак не имел этого в виду. Это возведение фигуры Фауста в символ современного мира может иметь некоторое основание лишь в специфическом романтическом видении…
Читать дальше

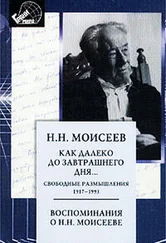
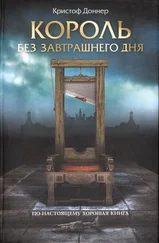
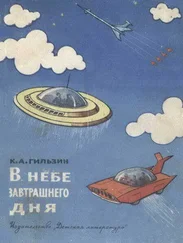
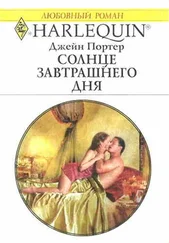
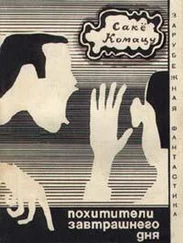
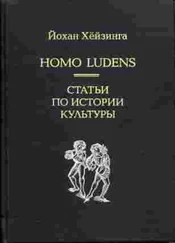

![Светлана Рощина - Небо завтрашнего дня [litres самиздат]](/books/436859/svetlana-rochina-nebo-zavtrashnego-dnya-litres-samiz-thumb.webp)