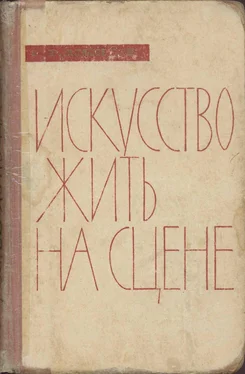Станиславский однажды с огорчением рассказывал о своем разговоре с одним известным актером — художественным руководителем крупного столичного театра.
Желая по дружбе исправить ошибки в работе этого актера, Константин Сергеевич и затеял с ним этот разговор.
Он начал с недовольства некоторыми театрами, которые совсем не думают о правде на сцене. Собеседник с этим вполне согласился — для него ложь на сцене тоже была нетерпима.
В поспешности и категоричности ответа Станиславский почувствовал, что тот не оценил всей серьезности сказанного, и, чтобы сделать все более понятным, стал говорить о необходимости подлинной правды. Собеседник подхватил и это и, со своей стороны, с жаром принялся распространяться о том, что без правды никак нельзя, без правды актеры уже не актеры, а ремесленники, штамповщики. Говоря это, он по своей театральной привычке несколько возбуждал, горячил себя.
Станиславский, видя это, стал осторожно наводить его на то, чтобы он почувствовал у себя эту специфическую актерскую приподнятость.
— Вот как вам кажется — сейчас вы верно живете? С полной правдой? — спрашивал он.
— Конечно,— отвечал актер все в прежнем тоне,— это меня так волнует, что я не могу оставаться спокойным.
— А разве вы не чувствуете, что немного подбавляете? У вас есть уже волнение, но вы его искусственно усиливаете.
— Нет, я хочу только ярче передать вам, что я чувствую.
— Зачем же вы стараетесь ярче передавать? Это только путает меня. Я вижу, что вы раздражены против ремесленников и штамповщиков, но я вижу также, что вы еще и для меня что-то добавляете, подкрашиваете свое чувство. И получается неестественность, неправда.
— Какая же это неправда! Это обычная моя манера говорить ярко и выразительно. Как в жизни, так и на сцене все должно быть отчетливо, выпукло — каждая мысль, каждое чувство!..
И как ни старался Станиславский, с каких сторон ни подходил, как ни ловил актера на его привычном преувеличении и нажиме («для публики»), тот так и не почувствовал у себя этой театральной фальши — она уже въелась в плоть и кровь.
Тогда Станиславский завел разговор о том, как по-живому, по-настоящему видеть, слышать, понимать друг друга на сцене, как обойтись без всякой особой «выпуклости» и «подачи на публику».
Но о чем бы ни шла речь, для актера, оказывается, ничего нового в этом не было: все это он сам прекрасно знает и других учит. Выходило так, что обо всем он мыслит одинаково со Станиславским, представляет себе поведение актера на сцене, только как Станиславский, и сам работает именно так, а не иначе...
Рассказывая об этом разговоре, Станиславский повторял в досаде: «Неужели так и нельзя объяснить? Неужели нельзя?! Уж если этого актера невозможно сдвинуть — что же говорить о других!.. Самое страшное, что говорит он все те же слова, что и мы: правда, подлинность, жизнь... Ждешь, что он их понимает так же, как и ты, а у него за этими словами совсем другое...»
Со времени этого случая прошло уже много лет. И теперь повсюду в театрах знают термины, которыми пользовался Станиславский, знают приблизительно и их значение. Знают также, что все приемы, обозначенные этими терминами, имеют своею целью одно: достичь правды в искусстве актера.
Но, чем обыденнее, привычнее становятся все эти слова, чем более входят они в обиход, тем больше распространяется и поверхностное, упрощенное их толкование. Вы пытаетесь привести режиссера к более верному и строгому пониманию художественной правды на сцене, а в ответ слышите все то же: «Ну да, я и сам так думаю!.. Ну да, я и сам всегда так делаю!»
Но если ты так думаешь и так делаешь — почему же так маломощны, фальшивы и скучны твои спектакли?..
«Близко» к правде, «похоже» на правду — как будто бы вот и хорошо! Уж по крайней мере лучше, чем грубая ложь и безвкусица в театре.
Лучше? Нет! Грубая фальшь сразу бросается в глаза и отталкивает, а эта, прикрытая маской благонамеренности и внешнего сходства с правдой, проскакивает благополучно. А там и узаконивается, а у нетребовательных даже получает название «художественности». Бессилье объясняется скромной академической сдержанностью. В нашем деле этот уклон в правдоподобие куда более опасный враг, чем открытая, грубая, вопиющая фальшь!
Актеру дано потрясать сердца
«Впечатление, производимое г. Стрепетовой, сильно, глубоко, светло. Когда я изведал его в первый раз (шло «Не в свои сани не садись»), я не поверил себе. Силу испытанного потрясения я приписал субъективному настроению, нервам... Так играть много раз нельзя, думал я про себя, артистка, видимо, живет на сцене. Увидать такое исполнение, конечно, большое счастье... впечатление остается надолго, навсегда... но разве, это игра, разве это искусство?.. Это гениальный порыв, случай...
Читать дальше