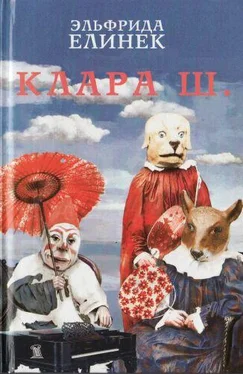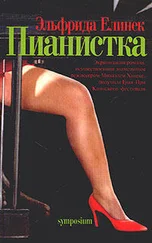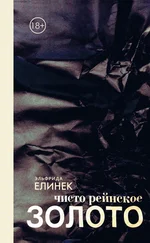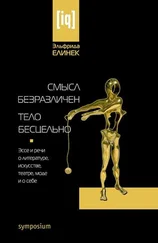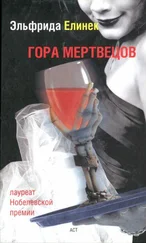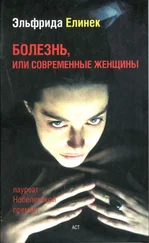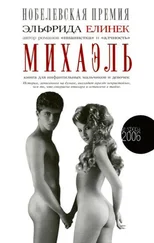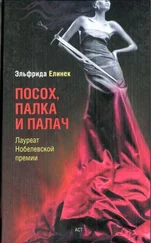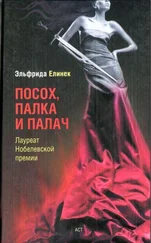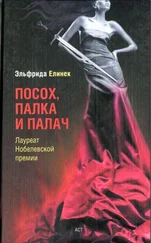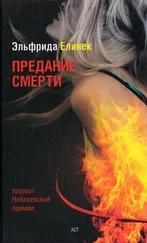А.Б.:Да, действительно трудный вопрос — хотя бы вот по какой причине: если писатель атакует и разоблачает ложный язык (к примеру, как Карл Краус с его цитированием, или Элиас Канетти с его «акустическими масками», или же Венская группа), то ему с самых разных сторон адресуется вопрос: понятно, против чего Вы боретесь — но вот за что Вы боретесь? «Где же положительная программа, господин Кестнер?» — спрашивали знаменитого немецкого сатирика. Я имею в виду здесь два уровня: с одним уровнем все обстоит относительно ясно, насколько мне позволяет судить об этом мой читательский опыт, — современная сатира не должна более опираться на определенные моральные учения. Мой вопрос касается второго уровня: из Ваших текстов ясно, против какого языка Вы боретесь, а вот за какой язык Вы боретесь? Или Вы боретесь за «тишину» (Ингеборг Бахман)? Боретесь за бессловесность?
Э.Е.:Я не борюсь за какой-то «конкретный» язык или за что-либо подобное. Я не предлагаю никаких утопических решений. Я ощущаю себя критиком, и я занимаюсь критикой языка. И на этой основе каждый должен заниматься деконструкцией собственного языка. Можно назвать то, что я делаю, буквалистской практикой, то есть, я ловлю язык на слове, я называю слова их именами, а еще это можно назвать неким процессом метафоризации. Я использую цитату и ввожу ее в контекст новой метафоры. Это как в калейдоскопе: внутри него все те же одинаковые стеклышки, но они раскладываются и снова складываются в разнообразные узоры. Цитаты изымаются из старого контекста и прописываются в новый, таким образом, они меняются, в них, так сказать, вписывается новый смысл. Ну, а положительная программа? А ее нет, ведь не существует ни передающего, ни принимающего сознания, каждый составляет для себя свой собственный текст, над которым затем снова трудятся другие, прописывая в него себя.
А.Б.:Вас читают именно так? Насколько мне известно, восприятие Ваших текстов идет другими путями. Если мы обратимся к Вашим романам, то читатели следят за сюжетом, переживают за персонажей, страдают вместе с ними и корчатся от беспощадного описания «человеческих отношений» — или, что тоже представлено в читательской рецепции, они вычитывают из Ваших книг мечты и неудовлетворенные желания, связанные с человеческой близостью. Они смотрят в калейдоскоп Вашего языка — и насколько Вы сами информированы о том, какие узоры они там видят? Получаете ли Вы письма от читателей? Существует ли обратная связь с ними, или она ограничена только литературной критикой?
Э.Е.:Я уверена, что мои пьесы для русского читателя будут очень непривычны. Тут большую роль играет мастерство великих русских драматургов XIX века, вызывающее у меня почтительную робость. Их метод основывался на отборе, на умолчании, на подтексте, на намеке (сегодня, пожалуй, так работает Ион Фоссе, следующий традициям Ибсена). У меня все совершенно иначе. У меня никто никогда не молчит. Каждая щель заполняется говорением. Мои персонажи не боятся ничего, кроме молчания. И когда они вдруг замолкают, они перестают существовать. Иногда даже я сама забываю о некоторых своих персонажах на сцене, поскольку они, когда умолкают, просто здесь не присутствуют. Я создаю, так сказать, то расползающуюся, то непрозрачную ткань текста, и любой режиссер может и имеет право вырезать из нее свой кусок. Обратная связь с читателем у меня есть, мне пишут письма, а вот с литературной критикой у меня никакой связи, критика меня, за редкими исключениями, просто не понимает. Порой мне кажется, что я — автор, которого понимают литературоведы, они размышляют о том, как я работаю. Однако это идет не от меня самой, мне не хотелось бы быть автором только для литературоведов. Но вот литературная критика, как я считаю, меня на самом деле не воспринимает.
А.Б.:В послесловии к пьесе «Ничего страшного. Маленькая трилогия смерти» Вы пишете: «Эти тексты предназначены для театра, но не для постановки». Однако постановки Ваших театральных текстов (драмами, театральными пьесами их, в самом деле, трудно назвать) имеют явный успех — в 2002 г. Вы получили звание «Мирового драматурга года». Что «спасает» Вашу театральную репутацию? Ведь это (для читателя) очень трудные, «неудобоваримые», «неудобные» тексты — например «облака, дом» или «Станция». Или «он как не он». Как удается сделать из этого театральное событие? И еще: ставятся ли Ваши театральные пьесы на сценах за пределами немецкоязычного региона?
Читать дальше