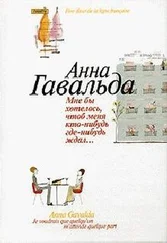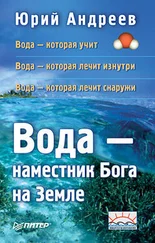Весьма вероятно, что многие из тех, кто ходит сегодня на фестивали «новой драмы», а также — как знать, возможно, есть и такие! — кто читает написанные авторами «новой драмы» пьесы, не очень-то помнят, что термин этот, равно как и стоящее за ним явление, в истории театра возникает не впервые. Формально — в третий раз, если иметь в виду, что поначалу именно этим термином были объединены столь разные драматурги, как Шоу, Ибсен, Стриндберг, Чехов, создававшие и определявшие театр рубежа XIX–XX веков. Вторично это понятие возникает в середине XX века, и хотя на этот раз — опять-таки формально — оно относилось исключительно к театру английскому, но чем как не «новой драмой» (равно как и «новым театром») был возникший день в день с лондонской премьерой осборновской пьесы «Оглянись во гневе» московский театр «Современник»? Впрочем, дело не в терминах, и в подобных случаях мне всегда вспоминается замечательная реплика многомудрого доктора Шпигельского из «Месяца в деревне» Тургенева; «Авангарду очень легко сделаться арьергардом. Все дело в перемене дирекции». Ведь молодой ниспровергательский задор очень скоро проходит, обнаруживая вместо себя либо суть, либо отсутствие таковой. В первом случае былая принадлежность к очередному «революционному» течению останется фактом, интересным разве что историкам театра, в то время как пьесы будут — как им, собственно, и положено — читаться и ставиться. В случае же втором и названия пьес, некогда собиравших полные залы, и имена их создателей, былых «властителей дум», благополучно канут в Лету, и слава богу, если ее воды хотя бы для тех же историков окажутся достаточно прозрачными.
Гарольд Пинтер тоже выходец из «новой драмы». Той самой, лондонско-английской, 1950-х, откуда родом Осборн, Шейла Дилени, Арнольд Уэскер, Джон Арден, Бернард Копc, Роберт Болт…
Неправдой, и даже почти предательством, было бы сказать, что имена эти, некогда составлявшие предмет и собственных моих — вполне неравнодушных — штудий, я с трудом вспомнил. Нет, отчего же. Однако их — ну, может быть, за исключением Осборна — неумолимая Лета так-таки поглотила. Гарольд Пинтер остался.
Все дело в том, что большинство его собратьев по «новой драме» (или, скорее, просто сверстников и современников) работали в совершенно иных жанрах.
Чаще это были пьесы, подчеркнуто реалистические, даже бытовые, и первые их зрители, некогда умиравшие от скуки на салонных комедиях либо чувствительных мелодрамах, невероятно возликовали, узрев то, что явили им эти неотесанные, плохо воспитанные, вовсе не из салонов и гостиных вышедшие мальчишки и девчонки. В этих выскочках, в этих несомненных парвеню они ощутили живую жизнь — и правильно ощутили. Красивые сказки приелись — захотелось некрасивой реальности. Реальность эта и была явлена.
Либо это были притчи — философские, исторические, — в которых, впрочем, прочитывалась или угадывалась все та же реальность. И это тоже ужасно нравилось, и это тоже понятно. Разве не так же — уже не в Лондоне, а в Москве — ловили мы «аллюзии» в «исторических» пьесах Радзинского или в спектаклях Театра на Таганке? По счастью (именно по счастью!), — сегодня такого нет и былые попытки наших тогдашних «властителей дум» выглядеть мудрыми, многозначитальными и многознающими, поучающими и наставляющими, равно как и собственные наши восторги относительно этих попыток, видятся — другого слова не подберу — смешными. Вынужденными.
Пожалуй, Гарольд Пинтер остался в значительной степени оттого, что никогда (или почти никогда) подобных пьес не писал. Примета высочайшего мастерства — в ощущении, что его пьес вообще никто никогда не писал: такая естественность подслушанного человеческого общения в них ощущается — в этих на первый взгляд абстрактных, почти схематичных, наконец абсурдных — вот и непременно прилагаемый к Пинтеру ярлык — историях. Они-то на поверку и оказались живыми — именно потому, что ни к какому времени и ни к каким реалиям не привязаны; живее стократ, нежели любая из производившихся тогда в Англии «пьес кухонной лохани». Не в лохани дело, оттуда ничего, кроме воды, которая сначала чистая, а потом не вполне, не проистекает. Пинтер подслушивал своих персонажей, руководствуясь совсем иными законами, — тогда и рождались на свет божий эти печальные зарисовки, где произносится в тысячу раз меньше, чем могло бы быть произнесено… Впрочем, вовсе не потому, что персонажи его «многозначительны»: такое ощущение, что даже в те слова, что все-таки говорятся, они-то как раз никакого смысла и не вкладывают. Смысл вкладываем в них мы.
Читать дальше