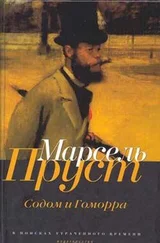Пруст неоднократно обращает внимание читателей на то, что он рисует «деградацию аристократии». И действительно, роман оставляет недвусмысленное впечатление постепенного упадка и вырождения аристократического общества. Во всяком случае, иллюзия и реальность не совпадают, рассказчик, пристально вглядываясь в так увлекший его мир, убеждается, что за претензиями и импозантной внешностью людей света скрываются «тупость и разврат», тщеславие и скудоумие, пошлость, бессердечность. Пруст нередко «развертывает» тот или иной образ, показывая скрытую за оболочкой сущность. Начиная, пожалуй, с идеальной служанки Франсуазы. «Мало-помалу я дознался, — пишет он, — что мягкость, благодушие, добродетели Франсуазы скрывали кухонные трагедии, как история обнаруживает, что царствования королей и королев, изображенных на церковных витражах со сложенными для молитвы руками, были отмечены кровавыми событиями». Рассказчика посетила ужаснувшая его мысль о том, что мир — лицемерен, лжив, что на самом деле преданная хозяевам Франсуаза считает, что хозяин не стоит и веревки, на которой его следует повесить.
«В поисках утраченного времени» — это тоже своего рода рассказ об «утраченных иллюзиях». Особенно иллюзиях, созданных блеском Сен-Жермена, великосветской «Стороны Германтов». От сказочных фей — к реальным людям. Таков путь героя — и это путь разочарования. Германты оказались мало похожими на свое звучное имя и герой подвергает их трезвому и безжалостному анализу. Вульгарна уже не только буржуазия, вульгарности так же, как и невежества, предостаточно и у аристократии. Одна из самых ярких сцен — финал третьей части романа («Сторона Германтов»), где рассказывается о том, как герцогиня де Германт бессердечно отворачивается от своего друга, умирающего Сван, поскольку она не может пропустить званый обед и не находит в «кодексе светских приличий» подходящей «статьи» для этого случая. Роман поэтому напоминает об обобщениях французского реализма, а персонажи Пруста занимают свое место среди героев «Человеческой комедии». Пруст чрезвычайно ироничен, в романе встречаются даже сатирические картины. Вот одна из них.
«…Между тем как на загаженной и желанной лестнице прежней портнихи (так как в доме не было другой, черной лестницы) по вечерам можно было видеть перед каждой дверью, на соломенном половике, пустой и грязный бидон для молока, приготовленный для молочника, который зайдет сюда утром, — на великолепной и презренной лестнице, по которой Сван поднимался в этот момент, по обеим ее сторонам, на различных высотах, перед каждым углублением, образуемым в стене окном швейцарской или дверью в жилые комнаты, в качестве представителей домовой челяди, действиями которой они руководили, и свидетельствуя от ее лица почтение гостям, привратник, дворецкий, буфетчик (почтенные люди, которые пользовались в остальные дни недели известной независимостью в своих владениях, обедали у себя, как мелкие лавочники, и могли перейти завтра на службу к модному врачу или богатому промышленнику), — внимательно следя за точным выполнением инструкций, данных им перед тем, как они облечены были в блестящую ливрею, которую они надевали лишь изредка и в которой чувствовали себя несколько стеснительно, — стояли каждый в аркаде своей двери, словно святые в нишах, и помпезная роскошь их наряда умерялась простонародным добродушием их лиц; и огромный швейцар, одетый как церковный педель, ударял булавой о каменные плиты при появлении нового гостя. Поднявшись по лестнице на самый верх в сопровождении лакея с испитым лицом и жидкой косицей собранных на затылке волос, как у причетника Гойи или стряпчего в пьесах из старой французской жизни, Сван пошел мимо конторки с сидевшими за ней перед большими книгами, подобно нотариусам, лакеями, которые при его приближении встали и записали его фамилию. Он пересек затем маленький вестибюль, который — подобно комнатам, убранным хозяевами дома так, чтобы служить обрамлением для одного единственного художественного произведения (по имени которого они и называются), и умышленно оставляемым пустыми и незаполненными ничем другим — когда Сван вошел в него, явил ему — словно редкостную какую-нибудь статую Бенвенуто Челлини, изображающую воина, стоящего на сторожевом посту, — молодого лакея, со слегка наклоненным вперед корпусом, вздымавшего над красным нагрудником еще более красное лицо, откуда источались потоки пламени, робости и рвения; лакей этот, вперив в обюссоновские шпалеры, прикрывавшие вход в салон, откуда доносились звуки музыки, яростный, бдительный, обезумевший взор, с невозмутимостью и бесстрашием солдата или с незнающей сомнений верой — словно аллегория тревоги, воплощение расторопности, напоминание надвигающегося грозного часа — подстерегал, казалось, — ангел или вахтенный — с дозорной башни замка или с колокольни готического собора появление неприятеля или наступление страшного суда. Теперь Свану осталось только войти в концертный зал, двери которого были распахнуты перед ним камердинером с цепью, отвесившим Свану низкий поклон, как если бы он вручал ему ключи завоеванного города. Но Сван думал о доме, в котором он мог бы находиться в этот самый момент, если бы Одетта дала ему позволение, и воспоминание о мельком замеченном пустом бидоне для молока на соломенном половике сжало ему сердце.
Читать дальше